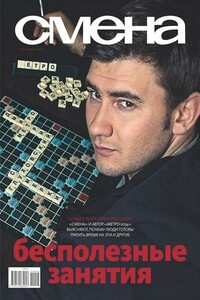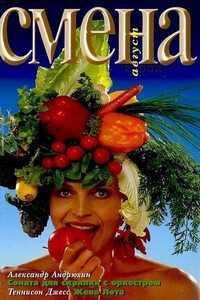Осень надежды | страница 48
– А не многовато будет? – морщусь я. – Хорошо бы баксов сто скостить.
– Я не привык торговаться. – Он достает толстый лопатник, вытаскивает три тысячные купюры. – Да, небольшая просьбица. Я бы хотел вручить этюд вашей – по сути, уже бывшей супруге – сам. Вы не против?
– Еще как против, – заявляю категорично. – Нет, дарить картинку жене буду я. Лично. Хоть маленько, да подслащу пилюльку. Обещал ей портрет – получит. Ну, будет… этот самый… этюд. Какая разница. В рамочку вставит – чем не картина.
– Ваше право. – С ловкостью продавца Сергуня заворачивает картонку в бумагу и вручает мне.
Неторопливо двигаю к выходу, но, оказавшись в коридоре, немедленно врубаю пятую скорость, сигаю по лестнице вниз, запрыгиваю в «копейку» – по газам! – и лечу вдаль!
По дороге звоню Ионычу – он, естественно, оказывается в своем банке:
– Крамской у меня. Через час встречаемся в дендрарии.
Он невразумительно блеет в ответ – не иначе как в зобу дыханье сперло от нежданно свалившегося счастья.
Дендрологический парк – заповедник стерильной, почти библиотечной тишины посреди громыхающего города, аж уши закладывает. Безмятежный сияющий день, бирюзовое небо с пушистыми облаками – точно вдруг угодил в картину Шишкина. Или Левитана. И это, ребята, двадцатое октября! А где же холод, дожди, грязюка, мокрый снег? Смотрю на непривычный осенний мир, напоминающий сухонького опрятненького старичка, и не верится. Так и кажется, что здесь какой-то обман, подвох, не может быть так ясно, солнечно и спокойно.
Я по маковку погружен в релаксацию: разнеженно развалился на скамье, а мои бессмысленные глазенки отражают деревья – и бесстыдно обнаженные, и застенчиво прикрытые остатками желтизны, и вечнозеленые. И маленький прудик с непринужденно скользящими утками.
Но это божественное состояние, почти нирвану, безжалостно прерывает Ионыч, несущийся на всех парах по подметенной дорожке среди восточных ковров, сотканных из опавшей листвы. Его сопровождает могучий охранник.
Отпустив телохранителя, он тяжело плюхается на скамейку и, задыхаясь и отдуваясь, произносит только одно слово:
– Ну?!
Натянутый на подрамник старый-престарый холст, на котором масляной краской нарисована женская головенка, он принимает как святыню. Ручонки вибрируют, губки трясутся. Я вспоминаю дрожащие руки отца, когда вернул ему альбом с марками. Неужели ЭТО стоит того, чтобы из-за него страдать, получать инфаркты? Бред какой-то.
– Где вы его нашли? – вцепляется в меня Ионыч.