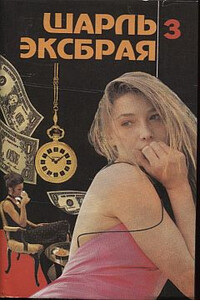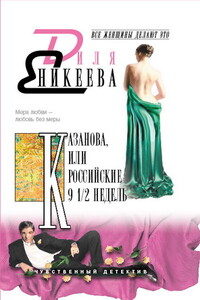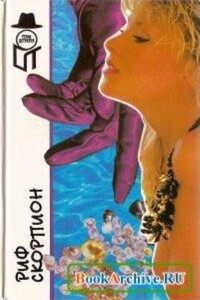Осень надежды | страница 33
– У него что, кинжал был?
– Именно. Как у детей гор. Кстати, этот джигит – убогий шибзик, такому не то что зарезать, капустку покрошить, и то промблема.
– А тебе не кажется странным, что убивал он только бизнесменов?
– Мало ли у кого какая блажь. Людишки – они очень даже удивительные бывают. Вот тебя взять, например… А может, енто всамделишная классовая ненависть, о которой писали ишо гениальные основоположники… как бишь его?.. Всесильного, потому что верного… Так придешь фотку глядеть? Или тебе самого жмурика подавай?
– Через полчаса буду у тебя. И фотку хочу поглядеть, и жмурика.
– Жду, – коротко бросает Акулыч и отключается…
Когда выхожу из забитого покойниками морга, моросит мелкий дождь. Усаживаюсь в «копейку» и, подгоняемый необъяснимой тоской, отправляюсь без цели и смысла блуждать по городу. Время от времени паркую машинку, забредаю в сувенирные магазинчики, бессмысленно таращусь на блестящие побрякушки, но на душе легче не становится. Перекусываю в забегаловке на железнодорожном вокзале, оставляю «копейку», а сам отправляюсь бродить по улицам.
Дождь отбрызгал, зато гуляет ветер. Над китайским ресторанчиком два красно-золотистых сплюснутых шара с сухим звуком бьются о стену. И так же колотятся изнутри о стенки моего черепка две-три унылые мыслишки – об убийце отца.
Был он молоденьким пацаном, студентом второго курса экономического института, косоглазым и носатым. Косоглазой и носатой была вся его семья: папаша, мамаша и младшая сестричка. Ребятня во дворе звала их гоблинами. Родители-гоблины служили бухгалтерами в местной телефонной компании, вместе уходили на работу, вместе возвращались. Дети – дочка и сын – с неба звезд не хватали, но учились старательно. В общем, рядовая семейка рядовых российских гоблинов.
Но примерно полгода назад с сыночком случилась внезапная перемена. Он стал агрессивным и непредсказуемым. А однажды – после той ночи, когда были убиты Стелла и мой отец, – домой явился под утро, усталый, бледный, взвинченный, в ответ на расспросы зло огрызался и тотчас повалился спать. С этого утра его будто отрезало от семьи.
Смотрел я в морге на вытянувшегося на оцинкованном столе отморозка, точнее, на его окостеневшую оболочку, и уразуметь не мог, что ощущаю при этом. Ненависть? Вроде бы нет. Мстительную радость? Тоже нет. Пожалуй, чувство освобождения: отныне неотвязный призрак отца не станет тревожить меня по ночам. Теперь-то уж дело окончательно закрыто, господа присяжные заседатели, и сдано в пыльный архив моей памяти.