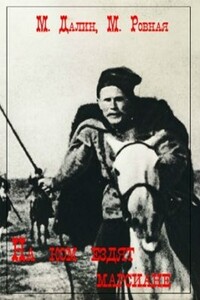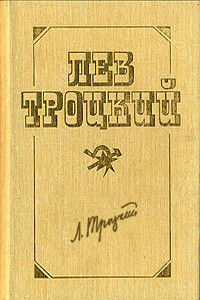Газета Завтра 196 (35 1997) | страница 53
Сейчас я скажу тяжелые слова, но в таком разговоре всякое умолчание гибельно и ведет только к новым спекуляциям и поражению Истины. Для меня эти люди шли, по существу, большевистской дорогой. Как те воспользовались Первой мировой войной для обращения ее в гражданскую, так точно эти надеялись воспользоваться войной второй. Да только та-то была мировой, а эта — Отечественной. И если у большевиков это вышло, а у Власова нет, так потому, что те делали шаг не в сторону, а вглубь. Они ломали свое в своем, с родным русским безумием, увеча свою жизнь во имя горячечной заемной идеи, которую умудрились напоить своей кровью. И не идеологической, а прямо живой кровью, а тут уж начинается метафизика, которую на полях заметки не развяжешь. Предшественники героев книги Салманова пусть неверно, зло, нечистиво, но жили на Родине, отчего идея все время цеплялась за живое и как-то обрывочно приживлялась, ухватывалась за жизнь и наконец прорастала в нее столь крепкими всходами, что сейчас вон полстраны тоскует о минувшем как о живом и нестыдном.
А уж эти в чужой земле ничем свою идею накормить и ни к чему приживить не могли, и она так идеей и маялась, пока не выветрилась в совершенную пустыню, изломав сотни тысяч судеб. Этот переодетый большевизм, намеревавшийся в чужом платье прийти на родную землю для ее “спасения”, был обречен в самом начале, в самом побуждении. И какие бы потом обоснования ни выдвигались — об осторожности немцев, о чрезмерной задержке формирования армии, о неуверенности самого Власова — все это уже было только загораживание существа, боязнь поглядеть истории в лицо, не страшась ослепнуть. Всякие слова об ошибках истории — это от подростковой самонадеянности ума. Она всегда пишет набело и, может быть, оступается в грамматике, но уж в стилистике сбоев не знает, хотя и не всегда говорит слогом Набокова, а иногда, и, кажется, чаще, выбирает Платонова — тяжелое земное косноязычие, договаривающее, однако, свои предложения до конца.
Мы еще раз на материале книги увидели, что когда люди, вместо того чтобы жить домом и Родиной, какими их Бог дал, по русской горячности и генетическому идеализму начинают торопить историю идеями (большевики одними, Власов — другими, но все идеями), то расплачиваются они страшно — увечьем народа и отнимающей силы ложью. Именно поэтому книгу так тяжело читать. Именно поэтому в ней, кажется, нет ни одной естественной, искренне живой страницы, а все время тянется напряженная плакатная сочиненность, которую уже не оживляют ни нехитрые любовные романы, ни альковные сцены, выдающие не побуждение героев, а только напрасные усилия автора. Читатель тщетно ищет жизни, смущаясь, что ни герои, ни автор ни минуты не бывают равны себе и покойны, а все будто оправдываются, ибо бессознательно чувствуют горестную нетвердость и несправедливость своих устремлений. И все заговаривают, заговаривают себя: “Десятки тысяч добровольцев уже служили в немецкой армии, но все они были под командованием немецких офицеров и взяли оружие, лишь бы драться против большевистской системы. Здесь уже было что-то новое, “самостоятельно-русское”. Хорошо “самостоятельно-русское” под командованием немецких офицеров — надолго ли хватит такой “самостоятельности”. И они, конечно, видят всю шаткость этого заговаривания — не слепые же, но с детской охотой сдаются малейшему оправданию себе: