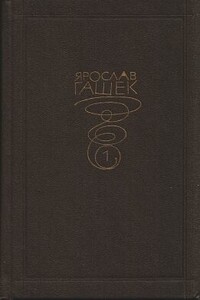Газета Завтра 220 (08 1998) | страница 65
Художник он был не без таланта, но одномерный, не подверженный тем вспышкам озарения, которые из дурака делают гения, а вот портреты у него выходили чрезвычайно оригинальные. Не то чтобы похожие на оригинал, но живые, со страшной притягательностью в чертах, и все как один, с вытаращенными от изумления глазами. Он и мне как-то к случаю состряпал портретик. Я сдуру потащил его домой, а следовало порвать по дороге. Дома я полюбовался картинкой с десяток минут, пытаясь постичь тайну творчества, и этого хватило, чтобы портретик застрял в памяти, видно, навеки, хотя в тот же вечер я его сжег. Портретик не только натурально запечатлел, так сказать, мой лик, но было горькое ощущение, что он его размножил. Меня стало на свете двое. Кто этого не испытал, пусть поверит на слово: это тягостное впечатление. Глаза у меня тоже были в изумлении вытаращены, отчего на портрете я одновременно напоминал и новорожденного, и пожилого горемыку, нацелившегося на упокой. Когда я выразил Вадиму признательность за замечательный подарок, голос мой предательски фистульнул, и художник тревожно насторожился:
— Тебе не нравится?
— Я же говорю: спасибо!
— Но тебе не нравится?
— Вадим! — решил я быть честным. — Это же карикатура. Причем какая-то дьявольская — даже не пойму, чего в ней больше: издевки или соболезнования.
Художник привычно понурил голову, и на том месте на полу, куда устремился его взгляд, закурился синеватый дымок.
— Может, тебе показалось? Ведь обычно портреты мне удаются.
Он правду сказал. Любимые его подруги, чьи портреты он писал, от них, да простится мне живодерское слово, истинно балдели. Заполучив свой лик с выпущенными глазами, они прощали ему и занудство, и вечную разлуку. Они покидали его осчастливленные, умиротворенные — рабыни. Пожалуй, на этих портретах Вадим Захарович мог озолотиться, но он их никогда не выставлял и не продавал, а только дарил.
Его маменька Таисья Павловна оказалась единственной женщиной, которой портретик досадил. Художник словно предчувствовал, что так получится, и долго отказывался ее писать, но уж больно она приставала: “Как тебе не совестно, сынок, — тянула жалобным голоском. — Всех своих мымр и гагарок перерисовал, а на родную матушку краску пожалел. Да зачем же я тебя рожала в муках и страданиях?” Сомнения в надобности давних родов возникали у Таисьи Павловны постоянно, художник к ним привык, но иногда все же расстраивался. Так было и в тот злосчастный день, когда он взялся за ее портрет. Он его склепал, как обычно, обыкновенным карандашиком за двадцать минут, и еще столько же потребовалось Таисье Павловне, чтобы в портретик вглядеться и по достоинству его оценить. После чего она объявила сыну, что этого никогда ему не простит. Разрывая портрет на клочки, она выразила наконец твердую уверенность, а не сомнение, что напрасно приняла муки в родильном доме в одна тысяча тридцать девятом году…