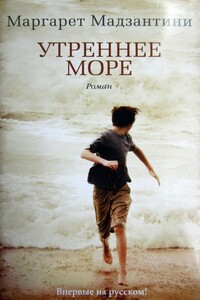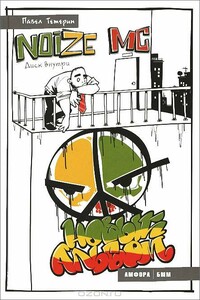Сияние | страница 98
Какого черта я здесь делаю с разбухшим членом? Я предпочел бы не рождаться на свет, лишь бы не знать, что, однажды встретившись, мы никогда не сможем быть вместе.
Это первое, что мне сказал Костантино:
– Даже не думай. Тут и думать-то не о чем.
А потом добавил:
– У меня есть сын. У него никого, кроме меня.
И довольно жестко добавил:
– И у меня, кроме него, никого нет.
Я что есть силы пнул мусорный бак так, что поводок выпал у меня из рук, и закричал:
– Как это у тебя никого нет? А как же я?
– Ты знаешь только то, что знаешь.
Тогда я хотел прокричать ему: «Я знаю, что у меня есть ты!» Но вместо этого сказал:
– Ты лишь жалкий гей, взращенный пидорами-святошами. Сначала они кропят все подряд святой водой, а потом трахают мальчиков-служек!
– Отлично, – ответил он. – По крайней мере, ты выразился ясно.
Я был вне себя, но даже в бреду гнева понимал, что Костантино гораздо сильнее меня.
– Прости.
– Забудь.
Потом он замолчал. Я жалобно мычал в трубку, как новорожденный теленок:
– Я люблю тебя. Ты ведь знаешь?
– Хватит уже! Гвидо, кончай это.
Я сижу на нашей кафедре. Чудная Джина ставит передо мной дымящуюся кружку и кладет несколько маленьких маффинов, которые печет и приносит на работу в чистом коричневом бумажном пакете для меня и других любимчиков.
Порыв ветра распахивает окно, и Джина бросается к нему. Я вижу ее серо-голубоватые лодыжки, похожие на сахарные леденцы, которые продаются в Ковент-Гардене. Она оглядывается на меня, подмигивает и снова семенит к окну походкой Золушки. Она уже в возрасте, но все равно это самая сексуальная женщина, которую я когда-либо видел. Если бы я захотел, то с радостью пожертвовал бы жизнью ради нее. Я никогда не встречал таких, как она.
Дорогая Джина, если бы ты знала, как мне приятно зайти на кафедру, увидеть потухший, но вычищенный камин, блестящую кочергу, совок, щипцы, уложенные, как вилки перед черной тарелкой. Я знаю, что в твоем чудесном сердце, твердом как сталь, есть маленькая слабинка: ты покровительствуешь мне, приехавшему в Лондон чужаку, ты выбрала меня своим протеже.
– And what about your mother, Guido?[21] – спросила она однажды, а за окном играли в салочки голубые синицы.
– Она умерла.
– О, мне ужасно жаль!
– Это было очень давно.
Ее глаза заблестели, а в стакан скатилась пара слезинок, которые она смахнула платком. У Джины тоже умерла мать, она выросла в пансионе для несчастных девочек, очень бедных, но все же не нищенок.
Она взяла меня за руку, и мы постояли несколько минут, глядя на светящийся закат. Наши мысли уносились в далекое печальное прошлое, к пережитым страданиям. Я достал бутылку, унаследованную от презираемого мною предшественника, покойного профессора Аллена. Распитие отличного односолодового скотча стало для нас своеобразной традицией. Впрочем, мы пили только по пятницам, строго после занятий. Это было время смеха и кривляний. Джина ужасно смешно представляла профессора Аллена и его заместительницу Фанни. Она хихикала, изображая покойных и здравствующих коллег, передразнивая студентов и просто прохожих. Если бы все были такие, как Джина, наш мир был бы самым добрым, самым прекрасным и самым достойным, пусть даже в шкафу и хранилась бы парочка скелетов. Ей нашлось бы место в Лондонском суде, она бы прекрасно смотрелась в белом парике и в плаще цвета воронова крыла, стучала бы деревянным молоточком, верша судьбы праведников и грешников.