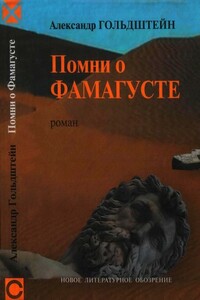Спокойные поля | страница 35
«Эклоги аиста, написанные им самим», немалый по объему цикл, показанный мне перед отъездом в обмен на Уайльда, тайнодействием воображения возвел город в далекой стране, далеко от России. В нем созерцательная власть, умеренный климат, счастливое преобладание в труде декоративного промысла — вышивок, ожерелий, калейдоскопов, дамасских ножичков с монограммами. Множество колониальных особняков за оградами, хвойных деревьев, почетных погостов, украшенных вдумчивыми эпитафиями. Элегантных кофеен, где публика в кремовых, белых одеждах курит вирджинский табак на террасах, объятых римским плющом, немало борделей и баров, состязающихся в сумерках тишины, ибо достоинство платных соитий может быть только тишайшим, пасмурно совлекающим, чуть обесцвеченным, и тем же правилом вдохновлена общественная выпивка. Несколько эксцентричных журналов, антикварное изобилие, брюшное гурманство, два ипподрома — скачки, бега. Газеты, выходящие исключительно с вечера — привыкшее полуночничать население по утрам отсыпается, дни проводя в праздности, не омраченной дурными вестями. Бездна затейливых инкрустаций, индийских фонариков и сандаловых палочек, китайских, один в одном, ажурных слонов и шаров, памятью не удержанных.
Переждав экспозицию, на сцену вступают герои, начинаются полные темных намеков и недосказанностей отношения, монологи, истории, сшибка верлибра с александрийским стихом. Воздух густеет, кипарисы высасывают дыхание, железнодорожная станция то пропадает, то призрачно гудит в ненадлежащий момент. Бытие моря гадательно — прибой неотличим от вернувшегося вне расписания поезда. Двойные луны, опаловый мужского рода диск в упряжке птичьих стай, где одновременное, дуумвиратное с Селеной владычество в небесах приводило бы прежде к безумию, принят покорно, расплатою за сокровенно давний грех, обесчещенье некой души, грех, о котором никому из насельников города ничего не известно, бродят лишь смутные слухи, но переживанье вины нарастает, взнервляя бессонные ночи.
Лунный двойник покровитель поэзии, бередя, возбуждая горячку стихослагательства: воды и веера, стены, колонны, авто, экипажи, могильные свежие плиты покрываются излияньями дробимой в осколки психеи. В этом перенасыщенном электричестве выветривается, испепеляясь построчно, сюжет — повесть предательства и раскаяния, свершаемых трижды на новый манер всякий раз, в забытьи предыдущего способа, если я правильно разобрал. Мистериальность события выдерживается до конца, до той самой минуты, когда читателю, коли он одолеет весь путь, будет предложено вывести морок из прощального озарения Пола Морфи, анахорета с Французской улицы, молчуна, духознатца, сложившего титул, дабы играть только вслепую (не в этом ли наивысшая зрячесть), с загробьем, по спиритической азбуке Морфи, на небывалой доске под тиканье возвращающих время часов. Безукоризненная педантичность отшельника разделяется старою девой сестрой, поваром-итальянцем и экономкой. Это была его, беглеца-короля, последняя партия, или она ему гениально привиделась. Придя с прогулки — точней, кенигсбергского циферблата, в неизменно лиловом своем сюртуке — он умер от апоплексии в ванной, успев посыпать воду розовыми лепестками.