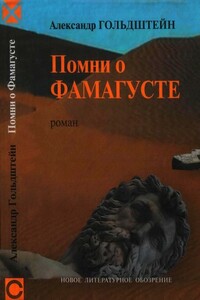Спокойные поля | страница 25
Меня сопровождали обе дамы, из Владимира, из Петербурга, меж ними не было разноречий, кроме несходства характеров, имущественных положений и вкусов, что не мешало им, клянусь, не мешало, прильнуть ко мне той знаменательной февральской ночью, когда прожекторы береговой защиты, то спазматично скрещенные, то столь же внезапно раскинутые, дабы иллюминатски собраться в пучок, сдавались мутнеющей, изжелта-серой, рябой и пятнистой луне. Яффа сияла что меч басурманский, вращаемый в ста загоревшихся изнутри зеркалах, штормило, волнорез бился насмерть, а твердь низвергалась послойно, гравюрно, пластами, кишевшими иглистой тьмою и вспышками. Хозяин открыл заговорщицки, кивком велев проследовать в залу первого этажа. Человек двадцать оповещенных, немолодых, изящно одетых мужчин расположились в низких креслах подле невысокого помоста, где заунывно и завораживающе, но не форсируя очарования, проверяя надежность воздушных путей, вел свою партию кларнетист, кузнечик-алжирец в белой рубахе, улыбчивый к внутренней думе негроид-бербер стучал кастаньетами, а мальчик, тот самый, что дал мне листовку, бил в бубен. Игрою ли случая или же с умыслом, в который нас не посвятили, мы оказались причастными узкому обществу, заняв три пустовавших кресла, более в залу никого не пускали.
Щелкнув пальцами, звук видимый, но не слышный в потоке магометанской музыки, неостановимой, навязчивой, целительно обесчувствливающей: анестезийное, с круговым возвратом растравы, отсеченье всего, что не шербет из полыни, горько-сладкая обморочность, — хозяин дал знак представлению. Из кулис вышли Мерием и Эн Барка в одеждах для пляски. Линейно-оконтуренная, орнаментальная, каллиграфическая, музыка обрела насыщенность и объем, трио к тому же разрослось до квартета, за дело взялся скрипач, томительный, раздирающий, похожий на египтянина, каких много на росписях в Лондонском и Каирском музеях. Слуга заварил мятный чай и разнес по всем креслам на бронзовом блюде с верблюжьими головами, гашишный дымок, алкоголи не возбранялись, но и не поощрялись. Одиннадцатью свечами в подвесных медных плошках, витые шнуры с потолка, убрано электричество в зале, сцена, неброская, тускловатая для невовлеченного взора, взору непостороннему представала горящей, подернутой пепельным слоем огня. Мерием не повзрослела в танцевальном костюме улад, серебряной блузе, льняных шароварах. Ей было шестнадцать округлых, припухлых, янтарных, ни в чем не замешанных, ни в чем не погрязших, трогательно не сознающих своей неискоренимой порочности, первобытной невинности, шестнадцать девчоночьих босиком и в браслетах, дикарских и вышколенных в аскезе, воспитанных так, как целую вечность уже не воспитывают в католических пансионах богатеньких дочек, — пряный контраст к Эн Барке, кузине и опекунше с ее уравновешенной, незапоминающейся красотой. Держа голову и туловище прямо, взмахивая руками, сотрясаясь в такт босому притоптыванию, они исполняли старинный танец улад, танец песка, подступившего к музыке, что въелась под кожу и колобродила, ходила отравой, безбожно лгала во спасение, усыпляла, не давала уснуть, не знаю, сколь долго они танцевали, я выпал из времени, нанюхавшись чужого гашиша.