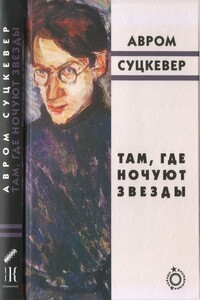Дядя Зяма | страница 89
Мейлехке Пик высунул свой острый нос из воротника, и сердито, как крыса, пошевелил обоими усиками.
— Кого вы имеется в виду со своими блинчиками?
Кого он, дядя Зяма, имеет в виду? Никого он не имеет в виду. Но есть такие одаренные зятьки, которые…
— Что-о-о?
Мейлехке Пик неожиданно вышел из себя. Он, высунув из дорогого воротника все свое личико, стал метаться и шипеть, как попавшаяся в мышеловку крыса.
— Мое приданое! — заверещал он. — Не желаю я больше разъезжать с вами. Не желаю!
— Но, но-о-о! Ишь кидается! Чтоб тебя в припадке кидало!
Это был голос извозчика. Так он клял одного из своих «залетных», который забаловал. Но Мейлехке Пику вдруг показалось, что это о нем, о его метаниях, и он немного успокоился.
Что вы скажете о таком почерке?
Пер. М. Рольникайте и В. Дымшиц
От того большого счастья, которое дядя Зяма когда-то отхватил для Гнеси, давно и следа не осталось.
Одаренный зятек сильно упал в Зяминых глазах. За полтора года, прошедшие после замужества дочери, Зяма убедился, что почерок сам по себе ничего не гарантирует: можно обладать красивым почерком и при этом быть изрядным паршивцем. Это убеждение дяде Зяме, человеку жестоковыйному, далось совсем не так легко, как можно было бы подумать. Он поседел от бед и потерял доброе имя, все приданое дочери и добрых несколько тысяч собственного капитала в придачу.
А случилось это так. Мейлехке Пик, вернувшись из последней поездки из Шклова в Оршу, в которую дядя Зяма потащил его, чтобы сделать «человеком», закатил такой скандал, что ему были вынуждены отдать большую часть приданого — пусть только «займется делом»… С этими деньгами Мейлехке несколько раз ездил в Киев, а потом возвращался к жене. Благодаря тому, что у его отца реб Меера-маклера был немалый запас «определенных купцов» и «определенных дел», от этих денег ничего не осталось. Мейлехке Пик за это время успел поторговать часиками, лесом, щетиной, костями «для производства сахара»[209] и просто сахаром — и из всего этого вышла чепуха, а часто еще и с векселями на три месяца вдобавок. После очередного «дела» Мейлехке возвращался к тестю измотанный, тихий и, кажется, присмиревший и усаживался за запущенные Зямины конторские книги. Но едва проходило две-три недели, как Мейлехке, отъевшись и отдохнув, снова начинал нудить и ссориться со всеми в доме, даже с Генкой, своей молоденькой красивой невесткой.
Ему не нравится еда, ему не нравится питье, ему не нравится запах Зяминых мехов. В Киеве, говорит Мейлехке, другое дело! Никакого, говорит он, сравнения. Зайдешь в «кофейню» — стены в зеркалах, звякнешь ложечкой — подают мороженое…