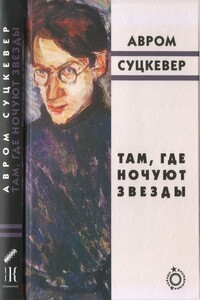Дядя Зяма | страница 14
Нигун звенит невыразимо прекрасно. Он мягким рокотом скатывается вниз из горних миров и вновь взмывает ввысь. На подъеме хриплые голоса старых певцов прерываются — вот-вот сорвутся в пропасть… Но грудные голоса хасидов помоложе не дают им упасть, подхватывают на лету, возносят все выше и выше. Богатство звуков, братская помощь в плетении нигуна трогают Зямино сердце и одновременно потрясают его своей царственной широтой: «Ой, братец ты мой Зяма! Это тебе не какие-нибудь меха! Не какая-нибудь выдубленная кожа! Ай-яй-яй, братец ты мой Зяма!»
— Ай, цву лахадо, — поют сидящие в кругу хасиды, — бгай вадо.
А голос Ури шепчет, поясняя:
— Ай, соберитесь вместе в этом собрании…
Зяма все больше теряется. Чем возвышеннее нигун, тем более подавленным чувствует себя Зяма. Толкования брата его раздражают. Это тебе не какой-нибудь гойский мастер с руками по локоть в краске! Не какая-нибудь любовная песенка, которую за работой поют евреи-ремесленники! Куча народу изучает святые книги, реб Зяма, куча народу братается с Всевышним! А ты, Зяма? А ты?..
— Отстань! — Зяма нетерпеливо подергивает плечом.
Иначе говоря: хватит мне все растолковывать.
Ури глядит на брата искоса. Он видит, что в Зяме проснулся обиженный невежда, и тут же замолкает. Последние строки хасидского песнопения накатывают тяжелыми, непрозрачными волнами: что ни слово — то загадка. Что ни слово — то удар камнем в упрямый висок:
— Вго азмин. Атик йоймин. Лминхо адей. Йегойн халфин[23].
Нигун в последний раз взмывает ввысь, перед тем как угаснуть, — так, перед тем как потухнуть, особенно ярко вспыхивает огонь в зажженной на субботу керосиновой лампе. Кто-то вздыхает, кто-то откашливается. И Зяме чудится, что бородатым хасидам, собравшимся вокруг стола, хочется плакать по уходящему от них субботнему счастью, по покидающей их субботней душе[24], по угасшему нигуну, и оттого им неловко… Среди тихих покашливаний и вздохов плывет мягкий голос раввина, подобный спасательной шлюпке с устланным белой скатертью дном. Спасение для хасидов, тонущих в сумраке. «Продержитесь еще чуть-чуть без меня! Сейчас я вам помогу!..» Так, кажется, подбадривает их голос раввина. Хасиды цепляются за края стола и, обратившись в слух, подпирают согнутыми ладонями большие, покрытые штраймлами и шляпами головы, — слушают и вправду обретают спасение. И плывет шлюпка, доверху нагруженная Торой и каббалой, толкованиями и набожными евреями, ведомая мягким, но властным голосом раввина. Гаснет последний отблеск дня, поникшие головы и атласные плечи слушателей сливаются воедино. Черные тени окутывают сидящих, накрывая собой все светлые пятна. Только субботняя скатерть с остатками третьей трапезы остается лежать перед сбившимися в тесный круг людьми, бросая бледные отсветы то на чей-то нос, то на чей-то наполовину скрытый под штраймлом лоб. Но вскоре матовая белизна скатерти тускнеет и, наконец, гаснет совсем. Бородатые лица склоняются над столом, словно над глубоким, черным, полным тайн колодцем, и оцепенело глядят в него. Лишь в дальнем конце этого колодца что-то шевелится. Это соболий высокий штраймл раввина. Раввин больше не может сидеть спокойно. Тора срывает его с места. Его тихий голос разгорается и сыплет искрами. Летят имена серафимов и ангелов, крылатые арамейские слова. А когда речь доходит до Божьего Имени, он произносит это запретное Имя сосредоточенно, прерывисто дыша, будто перебрасывает своим человеческим, грешным языком горящие угольки с губы на губу: