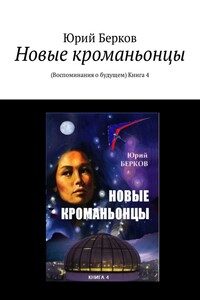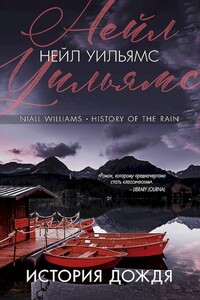Япония без вранья. Исповедь в сорока одном сюжете | страница 50
Уже позднее я узнал, что эта система решения проблем уходит корнями в традицию деревенских собраний — ёриаи. В них участвовали все мужчины деревни, богатые и бедные, включая даже деревенских самураев, причём говорили здесь на равных. Все собирались в большой комнате деревенского храма или просто усаживались вокруг костров на земле — и проводили на ёриаи по нескольку дней, ели, когда хотели, спали прямо там, пока не выговорится каждый, кому есть что сказать.
В основном вспоминали схожие проблемы, которые приходилось решать раньше, причём вспоминали не столько диалогом, сколько бесконечными, связанными единой темой монологами. В конце концов один из старцев принимал решение — одновременно и общее, и своё: общее в том смысле, что оно выражало мнение всего собрания, а своё потому, что именно он брал на себя ответственность за последствия. Лидером всегда становился не самый говорливый, а, наоборот, самый молчаливый. Для человека европейской культуры, где ценится как раз умелое ораторство, этот выбор далеко не очевиден.
Именно так до сих пор работает японская политика на уровне малых демократических социумов — на основании монологов, прецедентов, и людей, умеющих услышать голос народа. В большой политике всё происходит несколько иначе. Решения всё равно принимаются на основе прецедентов, но с одним важным отличием.
В то время как в прошлые времена все прецеденты были историей самой деревни, — коллективно хранимой и коллективно же создаваемой, — после революции Мэйдзи, когда деревня стала частью чего-то большего, а потом и после войны, когда уже сама Япония стала частью чего-то большего, прецеденты, а вместе с ними и власть, ушли за пределы социума.
Сейчас японские политики объясняют свои решения словами западных лидеров, профессора начинают и кончают работы цитатами из западных же авторов, и даже споры между правительством и интеллигенцией сводятся к тому, на какой западный прецедент ориентироваться.
В результате выходит, что лидеру уже не надо уловить голос народа. Он всё ещё слушает, но уже не слова своих собратьев. Он слушает только слова извне.
26. ВЕСНА
Первый раз в этом году вышел на улицу босиком. Асфальт уже тёплый, но ещё не раскалённый, как летом. С непривычки подошвы болят, хочется скорей дойти до парка, где уже расцвела слива, где трава и песок, где мои и чужие дети играют в какую-то немыслимо сложную игру с английским названием. На полпути со мной вдруг заговаривает незнакомая старуха за семьдесят, маленькая и сморщенная, но задорная, как девчонка.