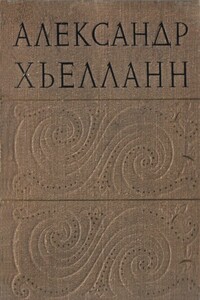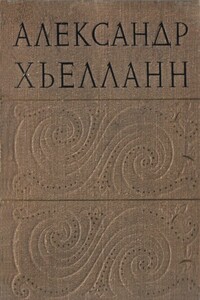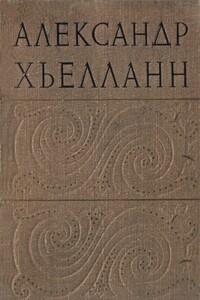Яд | страница 111
Отец и сын вошли в кабинет. Здесь можно было отдохнуть от всей суеты. Сюда не полагалось входить посторонним.
Профессор, горько вздыхая по временам, принялся составлять телеграммы. Абрахам, подойдя к окну, бесцельно смотрел на улицу — там моросил мелкий осенний дождь.
Но вот занятия профессора были прерваны приходом какого-то постороннего человека. Абрахам вспомнил, что этот бледный и вежливый человек — распорядитель похорон. Отец принялся с ним беседовать, и тогда Абрахам вышел из кабинета и снова направился в спальню родителей.
Там он сел на стул возле матери и, не плача, долго и пристально смотрел на нее. Какое неподвижное, окаменевшее лицо у его матери! Но, может быть, произошла ошибка, и она не умерла? Может быть, она сейчас повернет к нему свою голову и воскликнет: «Мой бедный, маленький мальчик, я не умерла».
Опять явился отец и опять, мягко взяв сына под руку, увел его из спальни.
В гостиной профессор что-то шепнул красивой маленькой супруге полицмейстера, и та почти немедленно, но как бы случайно обратилась к Абрахаму с просьбой:
— Будь такой добрый, Абрахам, подержи эту лестницу, на которой я стою. И дай мне, пожалуйста, булавки — зашпиливать гардины.
Абрахам, прекрасно понимая, в чем тут дело, подошел к жене полицмейстера и стал ей помогать. И вскоре все дамы старались чем-нибудь занять Абрахама и при этом превозносили его проворность и ловкость.
Таким образом прошел день до обеда. За обедом Абрахам понял, зачем была приглашена повариха.
В столовой стоял длинный стол, за который уселись все дамы, присутствующие в доме.
Абрахам занял за столом свое обычное место. Но когда он поднял глаза, то увидел, что рядом с ним сидит фру Бентсен. Она сидит возле миски и разливает суп по тарелкам. Тут Абрахам разразился громкими рыданиями. И он так горько и неутешно рыдал, что должен был встать из-за стола и выйти из комнаты.
Только сейчас невыносимое горе до боли сжало его юное сердце. Только сейчас это неутешное горе — огромное, как океан, — захлестнуло все его существо.
Взрослые полагают, что даже огромное детское горе быстро проходит, потому что его оттесняет множество новых впечатлений. Но такое священное горе не исчезает полностью — в глубине души оно оседает особой, непреходящей болью, из которой потом вырастает все, что наполняет наше сердце.
Жизнь и годы сгибают и меняют человека. Все раны его затягиваются, зарастают. Однако рубцы от большого горя, от самой тяжелой потери остаются у тех, кто, раз пережив его, приобрел способность все понимать и страдать.