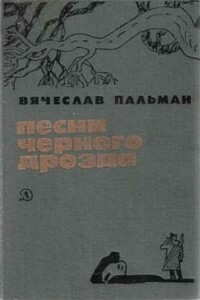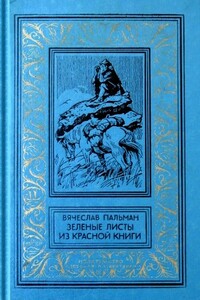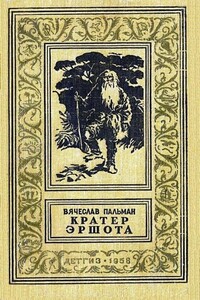Кольцо Сатаны. Часть 2. Гонимые | страница 42
— Обрадовал! Да эти тонны из поселка не выйдут, их тут же расхватают!
— Мы с трудом удерживаем договорников, — Сенатов говорил спокойно, словно бы показывая начальнику, как надо вести себя даже в критические моменты жизни.
— А вот с июля, — добавил Хорошев, — пойдет зелень уже десятками тонн. Если останутся специалисты, вообще работники.
— Вот положение! — Нагорнов сел на стул, поигрывая плеткой перед собой. Морозов посмотрел на главного и сказал:
— В этом году мы стараемся всю капусту на пятидесяти гектарах посадить в навозных горшочках. Прибавка урожая будет на три-пять тонн с гектара. Добавка — почти двести тони.
— Запомню! — в голосе Нагорнова звучала не радость, а угроза. Иначе он не мог.
А Морозов улыбнулся. Он был уверен. Испытано. А тут на хорошо унавоженной земле…
Когда выходили, Сенатов вдруг сказал, придержав Сергея Ивановича за рукав:
— Почему бы вам не написать об этом в газету?
— Не напечатают. Ведь я…
— Попробуйте. И передайте через меня. Пусть и другие совхозы…
Седых остался у Кораблина, что-то хотел сказать один на один. Хорошев и Морозов шли домой вдвоем.
— Знаете, они, кажется, в цейтноте, — Хорошев слабо улыбнулся. — Доигрались со своим режимом. Разметали людей. И уже некому работать, пока в центре не наладят новую волну арестов. Но скольких же погубили — трудно представить! Не одна Колыма в стране… Спохватились, когда некому работать. Не жалость у них, а личная корысть. Золото, как средство самоутверждения, повышения по службе. А ведь у него здесь семья, дети, — совсем тихо сказал Морозов. — Как такой отец семейства может ласкать собственного ребенка? Ужас какой-то.
Помолчали. Сергей вздохнул и добавил:
— Сталин довел до убийства свою жену. Или убил. И ничего. Живет и совесть не мучает. У Молотова и Калинина жен посадил. Тоже тихо-мирно, будто так и надо.
Они остановились. В спину им светило солнце, его тепло уже ощущалось сквозь одежду, как ласковое прикосновение. Сразу вспомнилась Сергею сцена прощания с Олей. Как она там? Сегодня он ей напишет…
— Да, — сказал Хорошев. — Вы афишу не видели в поселке? Кино в клубе. Комедия с участием Раневской. Не сходить ли нам?
— Вы не бывали в клубе?
— Нет. Одному как-то невесело. Чужие вокруг. Отвык от вольных людей, стесняюсь. Какие они здесь — не представляю.
— Сходим, сходим на Раневскую. Я зайду за вами.
— Вот так, в телогрейках и пойдем?
— Ну и что? Они же чистые. У меня ничего другого нет.
Оба они ощущали настороженность и подозрительность договорников к бывшим заключенным. Расслоение общества усилилось к концу тридцатых годов. В политотделе и по месту службы нередко проводили семинары для вольнонаемных, где политработники и оперативники НКВД напирали на чуждое влияние, толковали о бдительности, приводили примеры разоблачений групп, где якобы шла антисоветская работа. И, естественно, предупреждали об опасности сближения с бывшими «врагами народа». Разделение подкреплялось и в снабжении: граждане, прошедшие через лагеря, получали продукты по литеру «В», даже если должность их входила в списки литеров «А» и «Б». Все это как бы увековечивало гражданскую неполноценность лиц, познавших тюрьму и лагеря, а черный штамп в паспорте юридически ограничивал саму жизнь освободившихся людей и заменял древний способ отличия чистых от нечистых: тавро на лбу.