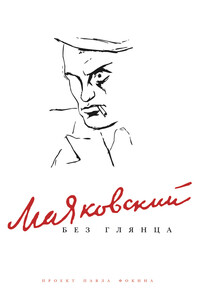Твардовский без глянца | страница 78
Конечно, где-то я уже формулировал для себя в этой тетрадке или в голове, что мне уже никуда не деться от своей известности, литературного и общественного имени, которое с неизбежностью стягивает на себя все такие и прочие беды, надежды, просьбы и т. д. Но, во-первых, мучительна переоценка, наивнейшее завышение моих возможностей реально помочь, а во-вторых… Во-вторых, допустим, что со всем этим я так ли, сяк ли могу справляться, могу привыкнуть, как могу справляться со всеми тяготами и муками журнальных моих обязанностей, но одного при всем этом не могу уж наверняка: писать.
Вот тут и подумаешь. Ну, хорошо, пусть я не смогу писать, м. б., это и по другим, внутренним причинам не могу писать (это, конечно, вздор), но пусть бы я мог хоть реально, результативно, не для видимости, нужной черт его знает кому – заниматься устройством этих несчастных судеб». [11, I; 226–228]
Владимир Яковлевич Лакшин.Из дневника:
«22.II.1964
Суббота. Приехал хмурый, будто больной, Александр Трифонович после приема избирателей, который бывает у него, кажется, раз в месяц. Возмущается негуманностью закона о прописке: нельзя прописать жену к мужу и т. п. „Нет, если я еще пойду к Хрущеву, я вот о чем с ним буду говорить, а не о литературе“». [5; 202]
Дали и околицы
Загорье и его обитатели
Александр Трифонович Твардовский:
«То ли во сне я увидел, то ли перед сном предстала мне в памяти одна из дорожек, выходивших к нашему хутору в Загорье, и, как в кино, пошла передо мной не со стороны „нашей земли“, а из смежных, ковалевских кустов, как будто я еду с отцом на телеге откуда-то со стороны Ковалева домой. Вот чуть заметный на болотном месте взгорочек, не очень старые, гладкие, облупившиеся пни огромных елей, которых я уже не помню, помню только пни. Они были теплыми даже в первые весенние дни, когда еще пониже в кустах снег и весенняя ледяная вода. Около этих пней я, бывало, находил длинноголовые, хрупкие, прохладные и нежные сморчки. Дорога, заросшая чуть укатанной красноватой травой. Дальше лощинка между кустов, где дорога чернела, нарезанная шинами колес, и стояла водичка до самых сухих летних дней. Затем опять взгорочек, подъем к нашей „границе“. Здесь дорожка, сухая, посыпанная еловой иглой. И наше поле, и усадьба со двором». [8, IV; 179–180]
Василий Тимофеевич Сиводедов:
«Во внешнем виде хутор никаких отличий от обычных крестьянских построек такого типа не имел. Не было только „круглого двора“. Под „круглым двором“ у крестьян подразумевалось: две хаты, разделенные сенями, – лицевая сторона четырехугольника; остальные три стороны застраивались хлевами для скотины. В одной из стен четырехугольника для въезда во двор устраивались ворота. Так вот, такого „круглого двора“ у Твардовских не было». [2; 16]