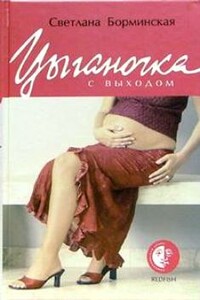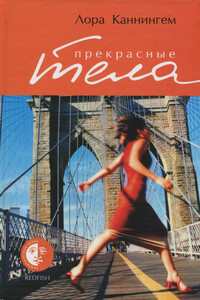Сладкая жизнь эпохи застоя | страница 20
Женщина в зеленом свитере смотрит на Мишку уже с интересом. Глаза блестят, и вся она изменилась. Как будто в ней кошка проснулась. Жмурится, выгибается, пробует когти. Кем ей суждено стать для Мишки? Спутницей в самолете? Женой? Не чувствую ничего. Ревности нет. Это точно. Может быть, и меня нет? Может быть, все-таки я улетаю с ним, а это тело на мостике — не мое? Мое. И скоро ему станет больно. Через несколько дней, может быть, раньше, а может быть, позже. Но сейчас главное — любопытство. Мне интересно, я должна все увидеть. Но как же могло случиться, что, такая любопытная, я отказалась от всего нового и выбрала мостик, а не прекрасную Вену, которую Мишка увидит уже так скоро? Вена и сказки Венского леса. Ах, эта Вена! На нее можно, наверно, взглянуть, она промелькнет, как на пленке, но ты никогда ее не почувствуешь. Это не твой мир, твой мир — это мостик. Стоя на мостике, ты смотришь фильм. Красивый, почти что в стиле Лелюша. Вот к Мишке, лингвисту и женщине в свитере подошел молодой человек, стройный, в вельветовом пиджаке. Я узнаю его, хотя раньше он был в дубленке. Теперь дубленка брошена где-то на кресло. В том вестибюле, куда всех пускали, этот молодой человек прощался с родителями. Как я могла это видеть? Ведь я смотрела на Мишку. Но мне все, все нужно было увидеть, было нельзя не увидеть. Так ли смотрела бы я на все в день его похорон?.. «Инка, мне уезжать хочется так же, как умирать». А теперь она шлет вполне бодрые письма. Как бы хотелось поговорить с ней. Хоть раз. Когда-то мы очень много писали друг другу. Летом, во время каникул. И письма соединяли. Из писем все можно было понять. И то, что за строчкой, и то, что между строками. А теперь — ничего. «Инка, мне уезжать…» Но как хорошо они смотрятся. Отлично сгруппировались. Кадр. Еще кадр. Прямо хоть на обложку журнала. А если бы я была с ними? В синем брючном костюме я тоже смотрелась бы очень неплохо. Рядом с вельветовым пиджаком? Или, наоборот, рядом с Мишкой? Не получается.
— Я не могу, я честно пыталась, но не могу себя там представить. Не верю, что я могу по правде там жить…
Когда я попросила полгода отсрочки, Мишка сказал «хорошо», но лицо постарело и стало очень усталым. Со мной в эти полгода он был очень нежен, и мы могли разговаривать обо всем. «Ты понимаешь, — сказала я как-то, — меня нередко мучает мысль, что я говорю свое „нет“ просто так, в злобном упрямстве. Я понимаю: разумных логических объяснений мне не набрать. А у тебя их избыток Может быть, этот избыток как раз и мешает. В твои доводы входят и доводы Венечки Ласкина. Венечке мало того, что есть здесь. Он подсчитал, что там будет иметь раз в пять больше. А я боюсь, что мне там не пойдет кусок в горло. Меня будет мутить от этого изобилия. И я просто умру там голодной смертью, и ты станешь убийцей, а этого я не могу допустить». Мишка не отвечал мне, а только гладил тихонько по голове. Я понимала, как много бредятины в том, что я говорю, но все же эта бредятина была мне понятней, чем все остальное. Однажды я положила перед ним черный томик «Мне голос был…» — прочитал он неспешно, нейтрально. Потом сказал: «Не то время, Инна, не та эпоха. Я помню, как мы говорили об этом. В последний раз — у Витальки. Когда? Года три назад? Эпоха Анны Андреевны к нам отношения не имеет. Когда-то стоицизм, геройство, а когда-то глупость».