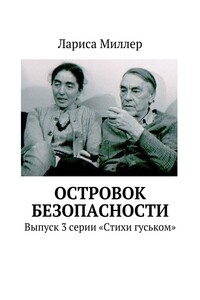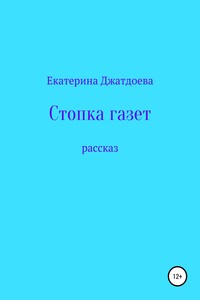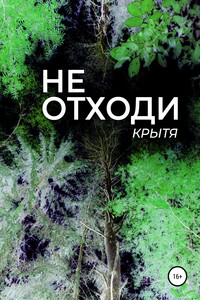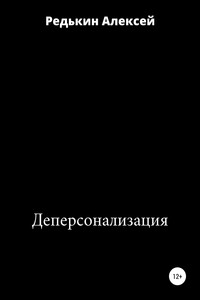О книгах, о поэтах, о стихах | страница 35
Но не сам ли Господь Бог создал прецедент, сотворив не тот мир, который замыслил? Настолько не тот, что даже решил его потопить. Однако и постпотопный мир оказался далёким от идеала. Если уж у Всевышнего случаются такие накладки, то нам тем более без них не обойтись. Выходит, ножницы между замыслом и результатом неизбежны. Но, может быть, это и к лучшему? Может быть, только меж двух разомкнутых лезвий и возникает не райская, а истинная жизнь, не диктант - пусть даже и небесный, - а поэзия. Сомкнись эти лезвия - и незримый кабель, по которому поступают энергия, сигналы, осуществляются всяческие связи, окажется перерезанным. То есть, выражаясь старомодно-романтическим языком, прервётся нить жизни.
Выходит, дефект слуха или зрения, ведущий к несовершенству восприятия, не только неизбежен, но и необходим. Сам изъян становится достоинством. Цепочка: Божий глас - ухо поэта - ухо слушателя напоминает популярную в моём детстве игру в "испорченный телефон", когда "на выходе" оказывается совсем не то, что "на входе", когда СЛОВО, КОТОРОЕ БЫЛО ВНАЧАЛЕ, претерпев "ряд волшебных изменений", становится почти неузнаваемым. От него остаётся лишь некий звук, отдалённо напоминающий первоисточник. Но этот звук - целое богатство. На нём-то всё и держится. "Мне созвучны эти стихи", - говорит читатель. То есть, звук не пропал, не растворился в чёрной бездне небытия, а был услышан, уловлен и даже усилен ответным чувством. Это и есть то самое СОЧУВСТВИЕ, что сродни благодати. Оно выше и важнее понимания, которое никогда не будет полным - таким, какого ждёт поэт, мечтая о читателе: "Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючей разговора б" (Мандельштам); "И как нашёл я друга в поколенье, читателя найду в потомстве я" (Баратынский).
Но даже если поэту сильно повезёт, и он встретит отзывчивого, чуткого, преданного читателя ещё при жизни, то и тогда поэт вряд ли будет удовлетворён. Ему всё равно будет казаться, что он не понят, не так понят, не до конца понят. Недаром его почти всегда "ломает", когда он слушает свои стихи в чужом исполнении. Всё не по нему: интонация, акценты, само звучание. Но поэт забывает, что слышит не оригинал, а перевод. Перевод с языка его души на язык читателя. А перевод невозможен без многочисленных изменений. И не только невольных, но и намеренных. Один мудрый переводчик с разнообразных языков на русский сказал: "Чтоб было "так", надо, чтоб стало "иначе". То есть, чтоб максимально приблизиться к оригиналу, вернее, приблизить оригинал к носителю другого языка, то бишь, к обитателю иной планеты, необходимо многое изменить. В пределах родной речи перевод осуществляет сам читатель и делает это в соответствии со своими природными данными, слухом, вкусом и так далее. Но как бы бережно и целомудренно он ни обращался с оригиналом, поэт всё равно найдёт сплошные несоответствия и впадёт в тоску. Слияние душ невозможно, да и не нужно, потому что уничтожает самое ценное: некий люфт, зазор, необходимый для полёта мысли и вольной игры воображения. Дистанцию, при которой притупляется взаимный интерес. Томление по слиянию душ куда важнее самого слияния, так как заставляет пробиваться друг к другу любыми путями, преодолевая всяческие барьеры: языковой, возрастной, временной, психологический.