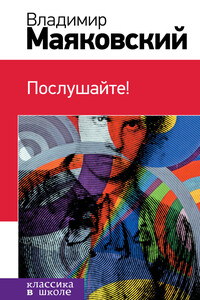Стихотворения (1929) | страница 3
комсомольская,
швабру взять
и с бытом грязненьким
вымести б
и эти праздники.
ГОВОРЯТ…
Барбюс обиделся — чего, мол, ради критики затеяли спор пустой? Я, говорит, не французский Панаит Истрати, а испанский Лев Толстой.
Говорят, что критики названия растратили — больше сравнивать не с кем! И балканский Горький — Панаит Истрати будет назван ирландским Достоевским.
Говорят — из-за границы домой попав, после долгих во́льтов, Маяковский дома поймал «Клопа» и отнес в театр Мейерхольда.
Говорят — за изящную фигуру и лицо, предчувствуя надобность близкую, артиста Ильинского профессор Кольцов переделал в артистку Ильинскую.
ТЕОРЕТИКИ
С интеллигентским
обличием редьки
жили
в России
теоретики.
Сидя
под крылышком
папы да мамы,
черепа
нагружали томами.
Понаучив
аксиом
и формул,
надевают
инженерскую форму.
Живут, —
возвышаясь
чиновной дорогою,
машину
перчаткой
изредка трогая.
Достигнув окладов,
работой не ранясь,
наяривает
в преферанс.
А служба что?
Часов потеря.
Мечта
витает
в высоких материях.
И вдруг
в машине
поломка простая,—
профессорские
взъерошит пряди он,
и…
на поломку
ученый,
растаяв,
смотрит так,
как баран на радио.
Ты хочешь
носить
ученое имя —
работу
щупай
руками своими.
На книги
одни —
ученья не тратьте-ка.
Объединись,
теория с практикой!
РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ
Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.
Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Книги, похожие на Стихотворения (1929)