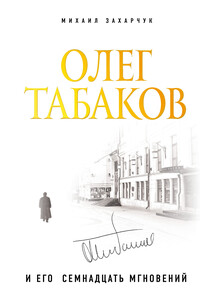Мемуары шулера | страница 14
Кажется, господин де Талейран как-то заметил в 1812-м, что тот, кому не привелось жить в 1772-м, так и не познал всех приятностей существования. Так что не стоит удивляться, когда нынче говорят, будто тем, кто не жил в 1912-м, неведомы прелести жизни.
И у меня есть все основания подозревать, что и в 1972-м…
Короче, думаю, человеку всегда свойственно сожалеть о временах, когда ему было двадцать — особенно если в этом возрасте ему довелось жить в Париже!
И в доказательство своего утверждения заявляю, что, когда я служил посыльным в отеле «Скриб», Париж казался мне во сто тысяч крат веселей, чем сегодня — хотя, признаться, в те времена скучал я там смертельно и чувствовал себя ужасно не в своей тарелке.
Впрочем, на месте мне не сиделось. Месяц спустя я покинул отель «Скриб» и поступил в «Континенталь», который, на мой взгляд, был подальше от центра. А в январе, устав от гостиниц, нанялся в ресторан «Ларю». Потом стал посыльным в театре под названием «Водевиль», где — уж не знаю, по какому праву — впоследствии разместился один из кинотеатров. И три зимы кряду, с 96-го по 99-й, так и сновал с места на место — пока, наконец, в один прекрасный день мой добрый гений не привел меня в Монако.
Трудно рассказать обо всех злоключениях, которые пришлось мне пережить за это время, однако есть одно, какое было бы просто непростительно обойти молчанием.
В бытность мою посыльным в ресторане «Ларю» я познакомился с посудомойщиком по имени Серж Абрамич. Полурусский-полурумын, этот человек обладал редким, прямо-таки дьявольским обаянием. Волнистые черные волосы, матовая кожа, пухлые губы — и глаза, чьи зрачки, казалось, дышали. Было видно, как они буквально расширялись в такт с биением сердца, а потом делались совсем крошечными. Он был евреем и выглядел скорее армянином, чем славянских кровей.
Не будучи человеком образованным и в обычном смысле слова благовоспитанным, он отличался куда большей деликатностью, чем остальные служащие ресторана. Кроме того, у него был какой-то особый музыкальный выговор, будто обволакивающий, настойчиво-убедительный, который искажал исконный смысл многих слов, придавая им странное ностальгическое обаяние. Я чувствовал, как все больше и больше к нему привязывался. Тем более, что он выказывал ко мне явное расположение, признаться, особенно для меня лестное, поскольку он не удостаивал им кого попало.
И все же какой-то внутренний голос все время нашептывал мне, что не стоит слишком поддаваться его чарам.