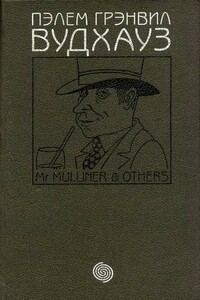Выше жизни | страница 79
Борлют с любопытством и восторгом слушал, как тот рассказывал содержание своих фресок. Затем, думая о том, сколько глубокого и таинственно прекрасного заключалось в них, а также непонятного для тех, кто заказал эти фрески, он не мог удержаться, чтобы не вставить: — Это чудесно! Но что они скажут?
— Ах, конечно, они будут удивлены! Они уже давали мне советы. Они хотели бы скорее видеть эпизоды из фламандской истории. Разумеется, историческую живопись! Непременно, Маtines brugeoises, Брейделя и Конника, членов общин, — все то, что сделалось карнавалом, драмою с загримированными героями, собранием аксессуаров, ветошью веков, которыми живут наши плохие художники, наши дурные музыканты, создающие большие полотна и кантаты. Надо предоставить делу то. что свойственно делу. Так, например, можно было бы создать только вульгарное произведение, из того великого эпизода битвы Золотых Шпор, когда гильдии и корпорации, — взяв в руки горcть земли, — ели эту землю, за которую должны были умереть…
Это воспоминание заставило Жориса и Бартоломеуса заговорить о фламандском деле, которому они оба были когда-то страстно преданы, при жизни Ван-Гюля. Они сознались друг другу, что порыв кончился, а стремления были бесплодны.
Художник отклонил свои мысли от города и других людей, чтобы отдаться всецело своему творчеству, которое одно теперь занимало его.
И он говорил о своем искусстве, как говорят о любви.
Он рассказал, как пришла ему эта мысль, неожиданно, точно встреча или захватившая его страсть: он говорил о своем сближении с идеей, безмолвных беседах, в которых она или открывала себя или отказывалась это сделать: иногда она становилась экспансивной, иногда холодной, словно недовольной… Победит ли он ее? Теперь она показывается ему, вся нагая на полотне. Ласки нежных кистей, медленные или лихорадочные! Нет более отдыха! Даже ночью он мечтает о ней, он видит ее более красивой, обожаемой в течение веков…
Слушая его речи, Жорис делал сопоставления: точно так же он любил Годеливу, ощущал ее очарование, молча беседовал с нею, видел ее даже во сне. Нежели правда, что любовь к искусству одинаково опьяняет, как любовь к женщине? Жорис думал о более прочном, более верном, может быть, более благоприятном счастье художника. Он чувствовал беспокойство, начало угрызений совести. Он тоже, прежде, любил свое искусство, стремился создать великое и прочное произведение, мечтал о реставрации и воскрешении Брюгге. Теперь он собирался пожертвовать своею любовью к городу — увлечению Годеливой.