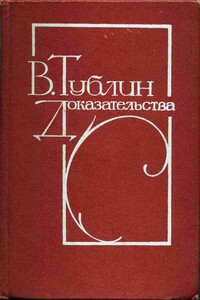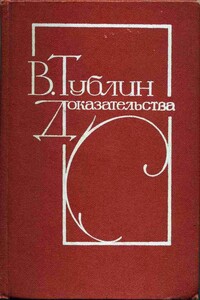Покидая Эдем | страница 38
Далекое время, юность, не знающая, что ждет впереди. Смелые планы, дерзкие, необузданные полеты фантазии, радость жизни. Тяжесть лодки, упругое сопротивление синей воды, радужные пятна, уходящие назад, и упругие водовороты в том месте, где только что было весло. Вперед! Руки медленно выносят длинное весло; мягко, с легким скрипом, движется по полозьям сляйд, левая рука легко лежит на рукояти, правая доворачивает, доворачивает весло так, что в момент захвата — плечи впереди, ноги в упоре — лопасть неуловимым, стремительным движением вонзается в воду. Спина напрягается; лодка вздрагивает; пенится, крутясь, вода; еще дальше разорванные радужные пятна, корпус мягко отваливается назад — не так, как на старинных фотографиях, чуть‑чуть, лишь для того, чтобы пропустить у живота валек. Водяная пыль ложится на лица, горячий пот стекает по спине, четыре весла, словно ладони, бережно плывут в воздухе, на руках пухнут и наливаются мозоли. А с кормы, где, держа в руках веревочки руля, сидит веселая румяная Томка в зеленой зюйдвестке, слышно:
«И‑р‑раз, и‑р‑раз, первый номер, четче захват…»
Острая прохлада, зеленые берега, проплывающие мимо, гулкая темень под мостом и завистливые взгляды нарядной публики, глядящей сверху вниз.
И пот, пот, пот, текущий по спине и груди.
И счастье уставшего, натруженного тела.
И звонкий голос с кормы:
«И‑р‑раз, и‑р‑раз… а ну, прибавить!»
Она могла бы вспоминать без конца. Она не думала, что все забыла, но и не думала уже, что помнит все так ясно, так живо, словно это было вчера. Вчера, а не двадцать лет назад, когда они пересели в долгожданный «клинкер» и, вернувшись с тренировки, плавно пристали к бону.
«Раз‑два, взяли». Восемь рук выдергивают черное веретено лодки из воды, лодка взмывает над головой, опускается на подставленные ладони и плывет в эллинг на свой стеллаж. Весла, аккуратно уложенные одно к другому, красные лопасти книзу, устало вытянулись на сходнях. А солнце все светит, синяя вода лениво облизывает доски причала, голубеет небо, и в груди нарастает что‑то, ширится и рвется наружу. Может быть, это крик радости рвется из груди, предчувствие счастья, любви, нежности. Не потому ли хочется петь, и смеяться, и плакать в одно и то же время, и скакать на одной ножке, и обнять всех на свете, весь мир — деревья, старый одичавший сад, этот нелепый и смешной дом в чешуйках черепицы, кусты и деревья, реку и людей. Не потому ли все это, что ты просто счастлива? Ты счастлив, я счастлива, он — он тоже счастлив. Все мы счастливы, потому что мы молоды и полны надежд, потому что нет войны, потому что светит солнце, и тебе пятнадцать лет, и нельзя, немыслимо думать, что когда‑нибудь может быть не так, иначе. Нельзя представить, что будет через десять, двадцать или, скажем, двадцать три года. Сколько же тебе тогда будет? Тридцать восемь? Нет, этого не может быть, представить себе это невозможно, это невозможно представить в пятнадцать лет, как невозможно предположить, что когда‑нибудь, через двадцать три, к примеру, года, ты обернешься однажды и спросишь себя: а была ли ты счастлива? И скажешь: да, была. И укажешь точно когда: это было летом тысяча девятьсот сорок девятого года.