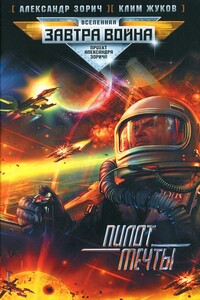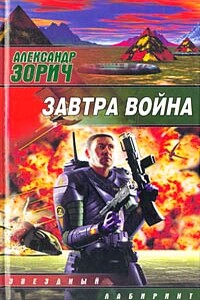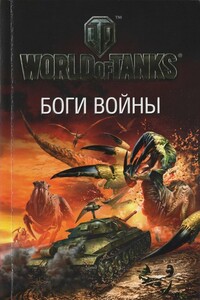Как пали сильные | страница 27
Как отмечают исследователи, в сочинениях Тертуллиана были намечены характерные черты западного христианства: практицизм и стремление к преобразованию окружающей социальной действительности, элементы юридического мышления и тот своеобразный духовный феномен, который может быть назван прообразом позднейшей католической «мистики плоти» [Столяров, 12]. Несмотря на свою «неканоничность» по отношению к официальным Отцам Церкви, Тертуллиан наметил основные паттерны, которые впоследствии были развернуты в грандиозную теологическую систему Августином.
Таким образом, артефакты культуры (тексты), созданные Тертуллианом, имели значительные последствия в культуре. Это удовлетворяет еще одному требованию определения девиантного мышления — проявленности, долговременности последствий. И, наконец, не вызывает сомнений, что мышление Тертуллиана было вполне девиантно по отношению к греко–римской концепции философствования. Тертуллиан провозглашает не рассуждение, но чувствование, не критический «здравый смысл», но беспрекословное принятие истин Писания, не театр, но священнодействие (этой теме у Тертуллиана посвящен отдельный трактат «О зрелищах», где он осуждает римские зрелища за идолопоклонство, нечестие и непристойную чувственность).
Трансцендирующим же мы называем тип девиантного мышления, представленный Тертуллианом, по следующим причинам. Христианский комплекс ценностей, которым Тертуллиан предлагает заменить преданные анафеме ценности греко–римской культуры, по существу трансцендентен. На это можно возразить, что любой комплекс ценностей до некоторой степени трансцендентен. Например, такие «мирские» понятия, как доблесть, воздержанность, законопослушание, гармония и разумность, без которых не мыслим ни один римский ценностный дискурс, являются понятиями сконструированными и идеализированными, поскольку они, строго говоря, столь же неовеществлены, как понятия спасения или христианской любви.
Это возражение вполне справедливо. И все–таки разница существует. Во многих случаях эта разница становится принципиальной. На нее указывают такие несхожие мыслители, как Жак Ле Гофф и О. Шпенглер, П. Сорокин и А. Кребер, К. Ясперс и Д. Андреев. Ле Гофф, например, отмечает, что, начиная с самого раннего периода становления европейской средневековой культуры, «ценности, во имя которых тогда люди жили и сражались, были ценностями сверхъестественными — Бог, град Божий, рай, вечность, пренебрежение к суетному миру и т. д… Культурные, идеологические, экзистенциальные помыслы людей были устремлены к небесам.» [Ле Гофф,