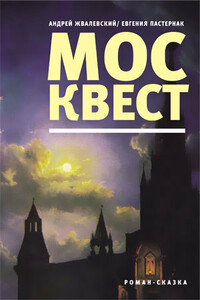Жребий викинга | страница 21
Услышав это, Гладиатор рассмеялся.
— При такой мудрости тебе, Астризесс, нужно было стать правительницей Рима или Германии. И прозвище Римлянка у тебя уже есть.
— Норвегия меня тоже устроит. По крайней мере, в этой жизни. Ты ведь не станешь возражать, чтобы регентшей была именно я?
— Но мой брат Олаф все еще…
— Сейчас мы не будем касаться судьбы твоего брата, мой юный конунг. Олаф — уже бывший король. Конунги способны избрать на своем совете нового короля, которым станешь ты. Если, конечно, я подскажу им, что лучшего правителя нам искать не следует. Причем произойти это может еще при жизни Олафа.
— И что, он не будет возражать против моего избрания? — с детской непосредственностью поинтересовался Гаральд.
— Принимая свое решение, конунги напомнят Олафу, что он уже правил и что у него была возможность утвердиться на престоле. Но главное, они напомнят ему, что потерять корону — для короля то же самое, что для настоящего воина — потерять в бою меч. Он же предстает сейчас перед Норвегией правителем без короны и без меча.
— Олаф уже знает, что конунги готовы лишить его этой короны?
— Только говорить ему об этом не стоит, — посоветовала Римлянка, — дабы не вгонять его в губительный гнев. И еще… Если ко времени твоего избрания Олаф все еще будет жив, то неминуемо захочет стать твоим регентом. И вот тут многое будет зависеть от твоей воли. Я же охотно поменяю титул не имеющей никакой реальной власти королевы-супруги на титул правящей королевы-регентши, оставив за Олафом право довольствоваться ролью советника при короле, если только он польстится на нее.
— Представляю, как ему будет трудно осознать, что он уже не король.
— Попадая в его ситуацию, — лучезарно улыбнулась Астризесс, — люди либо быстро свыкаются с мыслью, что они уже не короли, либо их заставляют свыкаться с мыслью, что они уже не жильцы.
7
Предав земле остатки своих кошмарных видений, вогнав в нее всю бесовскую силу своего истощенного организма вместе с сорванными ногтями и кровью израненных пальцев, юродивый как-то сразу обмяк. В последней резкой судороге он в каком-то странном броске перевернулся на спину и, задрав по-козлиному узкий, редковолосый подбородок, блаженно уставился на небо — теперь уже такое же недосягаемо высокое и таинственно чужое для него, как и для всех прочих, в мире этом сущих.
— Не забудь о его пророчестве, брат Дамиан, — крестясь на Восток, проговорил другой монах — тоже рослый, статный и бронзоволицый. Это был давно обремененный «телесной похотью» галичанин