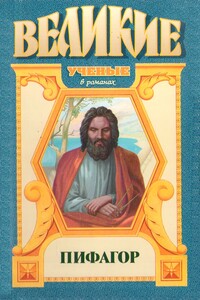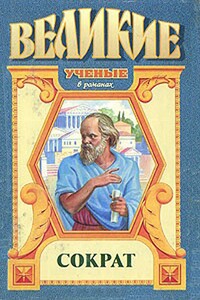Великий стагирит | страница 26
— Да, да, — согласился Аристотель. — Он просто очаровал меня. И я невольно, как эта тень…
— О какой новой науке ты говорил?
— Это пришло само собой, ни о чем таком я прежде не помышлял, Гермий. Но увидел его глаза, услышал его голос, и во мне невольно родились эти слова о новой науке… Прямо колдовство какое-то. Я вовсе не хотел…
— Не скромничай…
— А ты будь последовательным, Гермий. То ты говоришь мне — будь скромней, то — не скромничай, — засмеялся Аристотель. — Я просто счастлив, что наконец увидел Платона, — признался он. — Просто счастлив, Гермий. И как он это сказал: «Мне кажется, что мы еще даже не начали это дело».
— Он сказал: «Мне ИНОГДА кажется…»
— Иногда? — удивился Аристотель. — Ты ошибаешься, Гермий.
— Пойдем, однако, — сказал Гермий. — Все ушли вперед. Догоним.
Голос у Платона был негромкий, так что все старались держаться поближе к нему, чтобы не пропустить ничего из сказанного им. Но сегодня сделать это было не так просто: стосковавшиеся по Платону за время его долгого отсутствия друзья и ученики — Аристотель насчитал их более тридцати — широким и плотным кольцом окружили учителя. Задержавшимся Аристотелю и Гермию не только не было видно Платона, но и многие его слова из-за шарканья десятков ног не удавалось разобрать.
Аристотель несколько раз пытался проникнуть сквозь это кольцо. По наконец с выражением страдания и обиды на лице оставил эти попытки и поплелся рядом с Гермием, который отстал от всех раньше его. Потом к ним присоединился Демосфен.
— Прав, конечно, старик, — сказал он, — что нехорошо быть жеребенком… Хорошо бы стать быком и разбросать всю эту толпу…
— Боюсь, что тебе никогда не стать быком, — сказал Гермий.
— Кто знает, кто знает, — ответил ему Демосфен. — Один я, конечно, не справлюсь с этой толпой, но вот если уговорить вас и взяться за дело втроем, а?
— Попробуй уговорить, — усмехнулся Гермий.
— Не тот случай, — сказал Демосфен. — А то, пожалуй, попробовал бы…
— Длинногривая кобылица не возьмет в супруги осла…
Гермий и Демосфен продолжали еще перебрасываться колкостями, но Аристотель не слушал их: он еще раз в мыслях повторил весь недавний разговор с Платоном и снова подивился своей неожиданной смелости. То, что он сказал о новой науке, должно было возмутить и оскорбить Платона: ведь такой наукой, удостоверяющей истинность всех других паук, Платон считал геометрию. И то, что называлось после Пифагора философией, было для Платона не более как геометрией. Фигуры и числа — вот тот срединный, умопостигаемый мир, который стоит между миром идей и миром вещей.