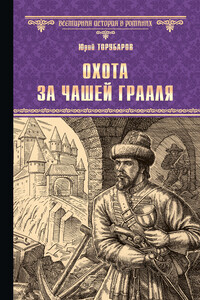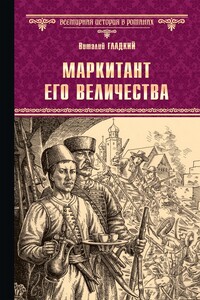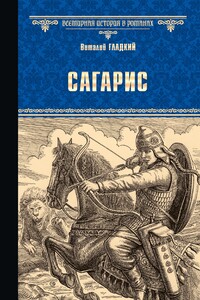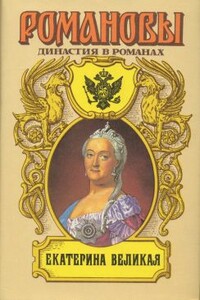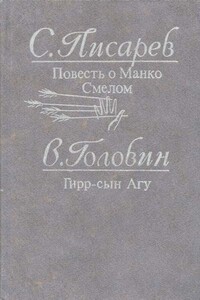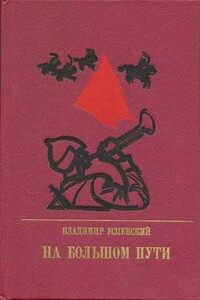Белые витязи | страница 49
— Слух надо особенный — дыхание слушать и соображать.
— Мешают! Толпа-то — тыща человек! Где же услыхать-то.
— У кого уши хороши, услышит.
— Так это надо лошадиные ухи-то иметь.
— Ну, сказал тоже! И лошадь в такой толпе не разберёт!
— Ну-ка, братцы, песню новую!
— Г ей, кто песни играет, выходи — его благородие заводить будет.
Живо появились песенники и стали в круг около сотника.
— Ну, слушайте, ребятеж, и запоминайте — новая. — И сотник нежным тенорком запел:
И как ни в чём не бывало под тёплым июньским солнцем раздалась казачья песня, новосложённая, применённая к новым обстоятельствам. И никто из этих высоких чубастых людей и не думал, что там за лесочком, что чуть синеет вдали, растянулась цепь аванпостов, что блещут там копья казачьи и нет-нет пронесётся протяжное «Слушай...» А за этой цепью идёт пустое, мёртвое пространство и что там такое за ним, за той деревенькой, что чернеет на косогоре, за блестящим изгибом реки...
Знают это одни только казачьи партии, что днём и ночью рыщут вблизи неприятеля, что не раз видали роскошно одетого короля неаполитанского с блестящей свитой, в числе которой были мамелюк и арап, проносящегося вдоль французских аванпостов.
И какое дело теперь казакам, что генерал Заиончковский сводит кавалерию польскую к берегу, что быстро готовят понтоны и мосты, вот-вот наведут, что не сегодня-завтра обрушится двухсотсорокатысячная армия Наполеона на русских и первым, кто примет её удары, кто прольёт свою кровь, будут они, казаки.
Им и горя мало, и весело звучит казацкая песня, переходя из напева в напевы.
Вдруг песня оборвалась, остановилась.
— Кто это едет? — спросил молодой хорунжий, приглядываясь вдаль по дороге.
— С аванпостов, верно, кто, ваше благородие.
— Аванпосты там, а едут оттуда — у, дура-голова!
— Тогда, може, и на аванпосты, — не смутился казак.
— Будто бы нашего атаманского полку.
— Атаманец и есть, — поддержал зоркий сотник, Балабин, начальник атаманских охотников.
— Куда бы ехать? В передовой цепи у нас Ребриков и Карпов, а это наш.
— Ваше благородие, да ведь это хорунжий Коньков.
— Бреши! — строго остановил Балабин. — Коньков-то, почитай, третий месяц, как помер.