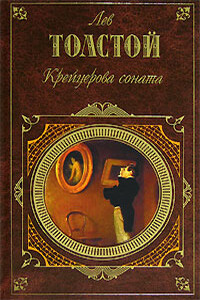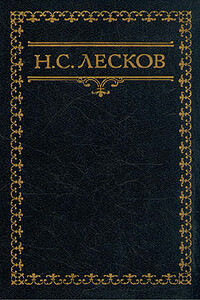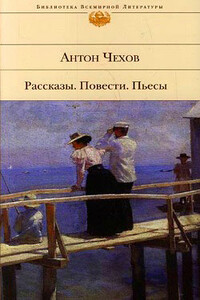Четверть века назад. Часть 1 | страница 8
— Вальковскій Полонія!
— Не выгоритъ у него, боюсь, закачалъ головою Ашанинъ;- онъ его сейчасъ шаржемъ возьметъ… А тамъ у нихъ, слышно, есть мѣстный актеръ превосходнѣйшій, — исправникъ, Акулинъ по фамиліи отставшій кавалеристъ; такъ вотъ его надо будетъ попробовать. Дочь у него также отличная актриса, говорятъ, институтка Петербургская, — и съ прелестнымъ голосомъ, хоть оперу ставь, говорятъ…
Друзья опять заговорили о Гамлетѣ, объ искусствѣ… Юный, бывалый восторгъ накипалъ постепенно въ душѣ Гундурова. „Что-же, не пропадать въ самомъ дѣлѣ,“ все громчѣе говорилось ему. Ему не дозволяютъ быть ученымъ, — онъ не въ состояніи сдѣлаться чиновникомъ… Но вѣдь вся жизнь впереди, онъ не знаетъ что будетъ дѣлать, но онъ не сложитъ рукъ, не дастъ себя потопить этимъ мертвящимъ волнамъ, онъ найдетъ… А пока онъ уйдетъ, какъ говоритъ Ашанинъ, отъ всего этого гнета, отъ тревогъ жизненной заботы въ волшебный, свободный миръ искусства, онъ будетъ переживать сладостнѣйшія минуты какія дано испытать человѣку: его устами будетъ говорить величайшій поэтъ міра, и человѣчнѣйшій изо всѣхъ когда-либо созданныхъ искусствомъ человѣческихъ типовъ. Погрузиться еще разъ въ его безконечную глубину, стихъ за стихомъ прослѣдить геніальныя противорѣчія этой изумительно сотканной паутины, немощь, безуміе, скептицизмъ, высокій помыслъ, и каждой чертѣ дать соотвѣтствующее выраженіе, найти звукъ, оттѣнокъ, жестъ, и пережить все это въ себѣ, и воспроизвести въ стройномъ, поразительномъ, животрепещущемъ изображеніи, — о, какой это великолѣпный трудъ, и какое наслажденіе!..»
И Гундуровъ, надвинувъ покрѣпче отъ вѣтра мягкую шляпу на брови, уютно уткнувшись въ уголъ коляски, глядѣлъ разгорѣвшимися глазами на бѣжавшее въ даль сѣроватою лентой шоссе, съ подступавшими къ нему зелеными лугами, только что обрызганными какою-то одиноко пробѣжавшею тучкою… Все тѣ же неслись онѣ ему на встрѣчу, съ дѣтства знакомыя, съ дѣтства ему милыя картины и встрѣчи. По влажной тропкѣ, за канавкою, идетъ о босу ногу солдатикъ, съ фуражкою блиномъ на затылкѣ, съ закинутыми за спину казенными сапогами; кланяются проѣзжимъ въ поясъ прохожія богомолки въ черныхъ платкахъ подвязанныхъ подъ душку, съ высокими посошками въ загорѣлыхъ рукахъ; лѣниво позвякиваетъ колокольчикъ обратной тройки, со спящимъ на днѣ телѣги ямщикомъ, и осторожные вороны тяжелымъ взмахомъ крылъ слетаютъ съ острыхъ грудъ наваленнаго по краямъ дороги щебня… А солнце заходитъ за кудрявыя вершины недальняго лѣсочка, и синими полосами падаютъ отъ него косыя тѣни на пышные всходы молодой озими… И солнце и тѣни, и эта волнующаяся тихая даль родной стороны, и теплыя струи несущагося на встрѣчу вѣтра, — все это какимъ-то торжествующимъ напоромъ врывалось въ наболѣвшую «въ Петербургской мерзости» душу молодаго человѣка, и претворялось въ одно невыразимо сладостное сознаніе бытія, въ безпричинное, но неодолимое чаяніе какого-то сіяющаго впереди, невѣдомаго — но несомнѣннаго счастія…