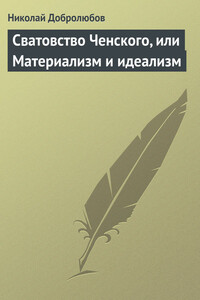«Собеседник любителей российского слова» | страница 22
Поражения, претерпенные от половцев, оправдываются большею частью тем, что мы не могли противиться превосходному множеству[56]. Рассказывая о вероломном убийстве Китана и Итларя половецких (1095), автор говорит о том, что Владимир Мономах сначала противился этому, но не упоминает ничего о том, что он наконец на это согласился[57]. О походе 1095 года, когда Святополк купил мир у половцев, сказано в «Записках», что Святополк пошел на них с войском, а они, «уведав о приходе великого князя, не мешкав, ушли»[58].
Из всех князей того времени порицание «Записок» заслуживает только Олег Святославич за свой «беспокойный нрав и гордость». Да еще о Давиде Игоревиче автор решился заметить, что это был «человек не твердый и ко вражде склонный»[59]. Злодейство его и великого князя с Васильком Теребовльским не могло быть оправдано, и потому оно только смягчается присутствием злых советчиков, последующим раскаянием и тем, что они были действительно ослеплены страстью. Давид, впрочем, принимает на себя всю тяжесть преступления; великий князь участвует в нем только своим вынужденным согласием и потому представляется почти правым.
Все княжение Мономаха описано блестящими красками; иначе и не могло быть, конечно, потому что летописи также говорят о нем с особенным чувством благоговейной любви.
Столько же восхваляется в «Записках» и Мстислав, которого могущество представляется столь великим, что он посылает вельможу своего разобрать удельных князей и разделить по справедливости пределы их владений[60].
И не только Мстислав, действительно пользовавшийся большим значением, но даже Ярополк и Всеволод II представлены в «Записках»[61] как полновластные владыки, совершенно законно и произвольно распоряжавшиеся уделами, переводившие князей из одной отчины в другую, отнимавшие и раздававшие области кому хотели. Все притязания князей выставляются как незаконные посягательства, нарушавшие высшую власть великокняжескую и происходившие от их своевольного, непокорного характера. Вследствие этого взгляда великий князь никогда не является виною междоусобий, но всегда решителем распрей, миротворцем князей, защитником правого, если только он следует внушениям собственного сердца. Как скоро он делает несправедливость, которую нельзя скрыть или оправдать, то вся вина слагается на злых советчиков, всего чаще на бояр и на духовенство.
При этом весьма странно рассказываются в «Записках» отношения Новгорода к князьям. Автор постоянно следит его историю, не пропускает ничего, не порицает новгородцев за своевольства, но не сообщает и их общественного устройства, отчего все новгородские события кажутся непонятными. Здесь даже не упоминается нигде о вече, а все происшествия представляются следствием замыслов некоторых, или говорится просто: новгородцы решили. Князьям приписывается слишком большое значение в Новгороде, а между тем рассказывается, как новгородцы прогоняли своих князей. Кажется, что автор как будто имел мысль, что князья сами были виноваты, не умели держать в руках беспокойных граждан. Так, под 1113 годом, говоря о печерской дани, которой не хотели платить новгородцы, автор замечает: «Писатели приписывают сие тому, что князь Всеволод Мстиславич, быв не токмо кроток, но и слаб, не содержал их в надлежащем порядке, оттого и своевольствовали»