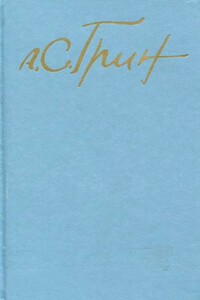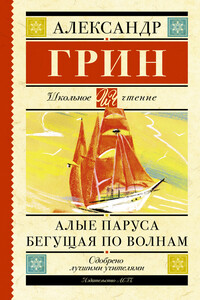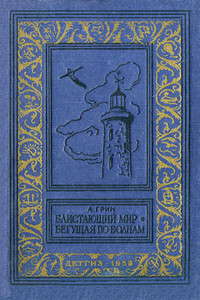Том 1. Рассказы 1906-1912 | страница 25
В наше время, когда приоритет общечеловеческих ценностей становится наконец уже вполне очевидным, когда в отечественную культуру возвращаются отторгнутые бездарными управителями (и тоже, разумеется, под лозунгом «патриотизма») ее национальные богатства, чтение периодики тех лет кажется каким-то наваждением, историческим мороком.
С середины 30-х по середину 50-х годов Грин практически не издавался: за ним в советской литературе официально числились одни «Алые паруса». Хорошо помню оглушительное впечатление, какое произвел на меня в отрочестве, после войны, случайно попавший в руки, затрепанный томик вольфсоновского Собрания сочинений: «Искатель приключений», «Безногий», «Наследство Пик-Мика», «Львиный удар». Казалось, это совсем другой прозаик – психолог с резким и острым взглядом, мастер сюжетных парадоксов, исполненных отчаяния и доброты.
Е. Носов пишет о внешнем состоянии русской культуры сразу после смерти Сталина: «Он оставил задерганную, замордованную процессами страну, напичканную фискалами, испытывавшую до последнего его часа дефицит колючей проволоки, когда при свете дня, не таясь, нельзя было взять в руки Достоевского, Есенина, Бунина, Александра Грина, Андрея Платонова, Анну Ахматову…»
Возвращение Грина в живой литературный процесс и возвращение к Грину читателя пришлось на период (конец 50-х – начало 60-х) бурного роста общественного самосознания, крупных сдвигов в социальном и нравственном статусе общества, расцвета романтических по тональности и максималистских по этическому пафосу умонастроений. Надо ли пояснять, до какой степени ко времени оказался тогда Грин, с его твердой нравственной программой, страстной защитой духовной свободы, безудержностью творческой фантазии. Но «запас прочности» этой прозы далеко еще не иссяк и сегодня.
В заметках о Пушкине и Л. Толстом Грин изложил, несомненно, и свое творческое кредо, говоря о книгах, «ставших синонимами гуманности, возвышенного отношения к жизни, человечности и самоусовершенствования», книгах, написанных «с простотой ясного дня и со всей сложностью человеческой души».
В 1924 г. прозаик опубликовал один из самых глубоких и удивительных своих рассказов – «Возвращение». Удивительных потому, что все в его герое и изображенных событиях было как будто бы прямо противоположно излюбленной сюжетно-фабульной системе произведений писателя, постоянно декларируемым и культивируемым здесь принципам. Да, конечно, корабль, море, экзотические страны. И экипаж – люди, «побывавшие во всех углах мира, с неизгладимым отпечатком резкой и бурной судьбы на темных от ветра лицах». Но среди них – крестьянин. И крестьянин, заметьте, равнодушный к «воплощенным замыслам южной земли, блеску океана», бесконечно тоскующий по «глухой деревне», где живет его семья, одолеваемый слуховыми галлюцинациями: «Скорее вернись к нам!.. Иди и живи здесь…»