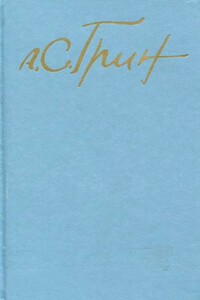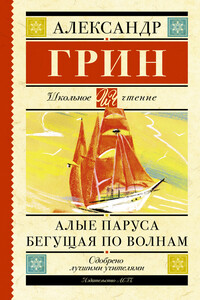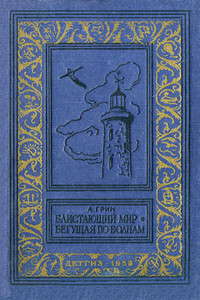Том 1. Рассказы 1906-1912 | страница 24
Все сказанное плохо уживается со стереотипными представлениями о Грине как о мастере авантюрно-приключенческого жанра, всегда находившемся под сильным воздействием западной беллетристики. Учась у западноевропейской литературы новеллистическому динамизму повествования, крепким фабульным построениям, увлекательному развертыванию интриги, художник последовательно отвергал какую-либо самоцельность жанровой формы, культ силы, индивидуалистическую мораль, неопределенность общих этических критериев.
Под напластованием тривиальных признаков жанра в прозе Грина бьют совсем иные источники. Игнорировать признаки авантюрной сюжетики и соответствующих художественных решений в его творчестве, конечно, нельзя, но говорить о них надо, памятуя, что жанр преобразован писателем, поднят на уровень большой литературы. Согласно мысли М. Бахтина, авантюрный сюжет в чем-то способствует широте художественного обобщения, выявлению общечеловеческой идеи, заключенной в персонажах: «Авантюрный сюжет не опирается на наличные и устойчивые положения… он развивается вопреки им. Авантюрное положение – такое положение, в котором может очутиться всякий человек как человек»[7]. Это сказано, между прочим, не о Луи Буссенаре или Жаколио. Это сказано о Достоевском. В таком масштабе и в такой интерпретации Грин опять-таки попадает в русло национальной традиции.
Справедливости ради надо заметить, что проза Грина подчас излишне сосредоточена на фабуле, злоупотребляет «экзотикой», утрачивает меру в мелодраматических интонациях. Однако чаще всего Грин попросту обводит нас вокруг пальца, скрывая под маской авантюрно-приключенческого жанра и безошибочностью эмоционального удара высокую художественную мысль, сложную концепцию личности, разветвленную систему связей с окружающей действительностью (и прежде всего действительностью современной писателю культуры).
Гриновская культурология оказывается, впрочем, остросовременной и сегодня, идет ли речь об «экологических» прогнозах писателя («Леса исчезнут, реки, изуродованные шлюзами, переменят течение…»), о нервных перегрузках, обрушившихся на человеческую психику в XX в. («Возвращенный ад»), или о росте «механических» начал жизни, о «скрежете механизма» в искусстве – тенденциях, которые стали объектом пристального исследования в рассказе «Серый автомобиль».
Несколько десятилетий подряд творчество Грина подвергалось нападкам критики, настроенной сугубо классово и патриотически. Книги его сжигались на тех самых, «пропитанных удушливой смолой публицистических и партийных кострах», что столь проницательно были упомянуты в «Блистающем мире». Незадолго до войны, в праздничном (23 февраля) номере «Литературной газеты», воспевавшей доблесть участников «боев с белофиннами» и жесткие резолюции XVIII партконференции, Вера Смирнова предупреждала общественность: «У корабля, на котором Грин со своей командой отверженных отплыл от берегов своего отечества, нет никакого флага, он держит курс „в никуда“». В 1950 г. об этой статье к месту вспомнил Виктор Важдаев, чей собственный опус назывался уже без всяких метафор: «Проповедник космополитизма. Нечистый смысл „чистого искусства“ Александра Грина»: флаг у гриновского корабля есть – это флаг «звездный», «англо-американский»…