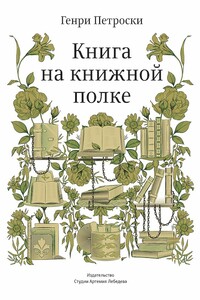Знание-сила, 2001 № 05 (887) | страница 110
Статья обитателя Объекта на страницах New York Times?! Это был вызов государственным устоям. Результат оказался сходным – закрытый Объект закрылся навсегда и для Сахарова.
Та же статья открыла миру ее автора и вместе с тем начала открывать для него реальную жизнь собственной страны. Он обнаружил своих сограждан, которые отстаивали права человека не из-за ядерно-ракетных обстоятельств, а просто потому, что считали такие права самоочевидными.
В 1970 году Сахаров и его новые товарищи образовали Комитет защиты прав человека. Он мало чем мог помочь униженным и оскорбленным, кроме того чтобы вникнуть в конкретные беды и сделать достоянием гласности конкретные нарушения международно признанных прав и свобод человека. Со многими проблемами прав человека Сахаров познакомился впервые. Свобода религии была одной из них.
Многое значило личное общение «с людьми чистыми, искренними и одухотворенными» – православными, адвентистами, баптистами, католиками, мусульманами. Конкретные имена и судьбы, конкретные формы подавления духовной свободы человека. Подавление исходило от формально атеистического государства, а фактически от государственной религии «научного коммунизма».
«[Я] понял всю трагическую остроту и одновременно сложность этих проблем, их массовость и человеческую глубину. Они заняли большое место в моей дальнейшей деятельности. Я подхожу к религиозной свободе как части обшей свободы убеждений. Если бы я жил в клерикальном государстве, я, наверное, выступал бы в защиту атеизма и преследуемых иноверцев и еретиков!»
Говоря о различии своего взгляда на роль религии в обществе от взгляда Солженицына, он сказал, что считает «религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же как и атеизм».
Отсюда, однако, не видно, как воспринимал Сахаров религиозную свободу – как только правовую, юридическую свободу, как элемент оптимально устроенной – справедливой – жизни общества? Или, кроме того, как еще и подлинно духовную свободу – возможность выбрать религию или атеизм независимо от объема знаний человека, мощи его интеллекта, обширности жизненного опыта?
Если так, то тогда он отличался от большинства своих коллег не меньше, чем от Солженицына. Ведь его коллеги-физики, как правило, считали, что с развитым научным мировосприятием совместим только атеизм.
И если так, то как же Сахаров реализовал свое право на религиозную свободу?
На досуге, предоставленном ему в горьковской ссылке, в начале 1980-х годов он дал такой ответ: «Сейчас я не знаю, в глубине души, какова моя позиция на самом деле: я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные Церкви (особенно те, которые сильно срашены с государством или отличаются, главным образом, обрядовостью или фанатизмом и нетерпимостью). В то же время я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной «теплоты», лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным».