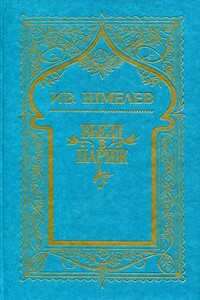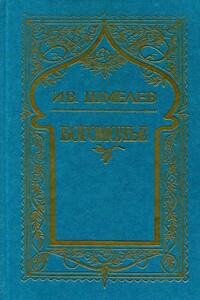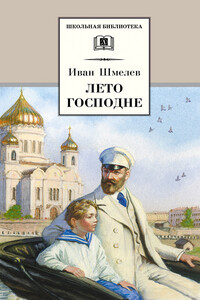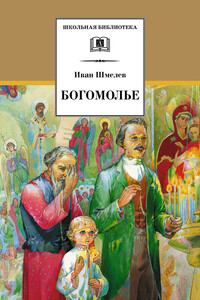Том 7. Это было | страница 9
Все чаще он выступает как художник-критик, нежели как идеолог, общественный деятель. Впрочем, с самого начала писатель принимал участие в литературной жизни эмиграции: состоял в парижском Союзе русских писателей и журналистов, был членом Общества друзей «Современных записок». С его интересом к молодым неоднократно посещал Общество русских студентов по изучению и упрочению славянской культуры, Союз молодых писателей и поэтов, Клуб молодых литераторов, народный университет. В 30-е годы он просто стал больше писать на литературные темы.
Особенно ярко его отличительные черты видны по сравнению с Буниным – именно потому, что их общие эстетические взгляды очень близки. Но Шмелев практически не говорит о том, чего не любит (исключение – ответ на анкету о Прусте, однако тут тема была задана не им). Жалеючи и достаточно спокойно, не переходя наличности, он отзывается о советской литературе. Наконец, даже когда дело касается близкого ему человека, он пишет далеко не все. Достаточно сравнить его статью о Бунине с горестным недоумением в частном письме Амфитеатрову: в своей нобелевской речи Бунин ни словом не обмолвился о России[41].
Сам Шмелев о ней не забывал никогда. Говоря о критике Ю. И. Айхенвальде (1928), он подчеркивал его служение России, называл великую цель искусства – «воплощение Бога в жизни, воплощение жизни в Боге». Если речь шла о П. М. Пильском (1931), редакторе «Сегодня», то писал о его вкладе в родную культуру. Если об Амфитеатрове (1932) – то о родной речи, подобной раздольной русской реке, о метком народном слове, об «учительной» нашей литературе. Если об Ильине (1937) – то о тайне искусства, об искусстве как «священном роднике». Если о поэте И. И. Новгород-Северском (1943), муже Кутыриной, – то о радости творчества, о разном искусстве «вдохновения» и «необузданного поползновения», повторяя свою излюбленную мысль Пушкина.
В сущности, Шмелев говорил о том же, что и в «большой» своей публицистике – о душе Родины, о ее стремлении к Христовой правде. Для всей русской культуры, для русского просвещения – главный девиз, выбитый на университетской церкви св. Татьяны: «Свет Христов просвещает всех». Так мученица Татьяна связалась для него с пушкинской Татьяной. В своих высказываниях о наших великих писателях Шмелев столь же современен и злободневен. Кажется, не имея возможности для открытой полемики или не желая ее продолжать, он развивает свои взгляды в статьях на литературные и даже литературоведческие темы.