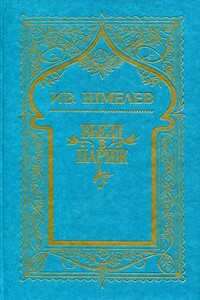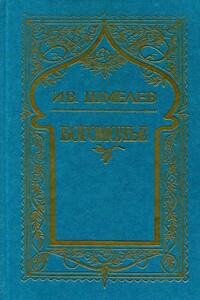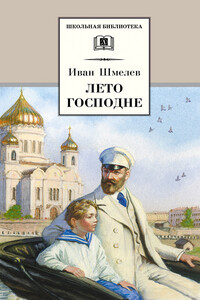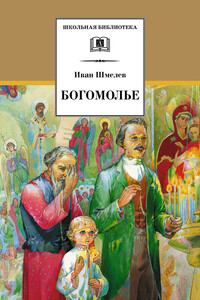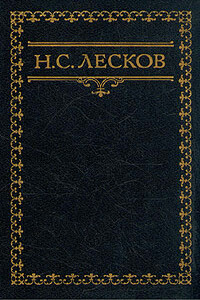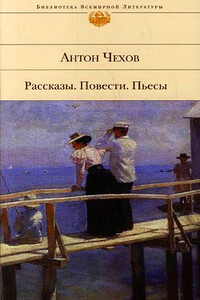Том 7. Это было | страница 5
По мере того как Европа выгодно торговала с большевиками, Шмелев писал свои статьи. В «Диком поле» (1924) – о деятельности известного полярника Ф. Нансена, Верховного комиссара Лиги Наций по делам русских беженцев (так называемый «нансеновский паспорт» русских эмигрантов стал для них притчей во языцех по тем сложностям, которые причинял). В «Открытом письме Томасу Манну»[18](1928) – о распродаже русских сокровищ на аукционе у Лепке в Берлине. Здесь надо сказать, что русских писателей особенно больно ранило «писательское» же признание большевиков. О позиции Р. Роллана, Г. Уэллса, А. Барбюса высказывались и Бунин, и Амфитеатров, и Мережковский, и А. Ф. Даманская, и филолог Н. С. Трубецкой[19]. О том же статьи Шмелева – «К писателям мира», «„Похоть“ совести», «Анри Барбюс и Российская корона» (все – 1927).
Но как же он надеялся, что хоть что-нибудь изменится! Как благословлял оставшихся верными России югославов, принявших наших инвалидов как своих, давших возможность русским детям получить образование – больше всего начальных русских школ было в Югославии. Этой стране Шмелев посвятил несколько статей: «Событие» (1928) – о съезде русских писателей, проходившем 25 сентября – 1 октября в Белграде; сам Иван Сергеевич там не присутствовал по болезни. «Ты победил, Галилеянин» (1934) – о гибели короля Югославии Александра Карагеоргиевича, убитого хорватскими террористами 9 октября 1934 года. 28 октября Шмелев выступил на собрании в память убиенного. «Письмо патриарху Варнаве Сербскому» (1935).
Временное ухудшение англо-советских отношений в конце 20-х годов вызвало появление статьи «Лед треснул?» (1929). Это уже чисто шмелевский поворот в теме: Россия и Европа.
Но мы остановились на лете 1923 года, немного забежав вперед. По приезде 5 октября из Грасса Шмелевы всю зиму и весну 1923/24 года живут в Париже, на квартире племянницы жены, Ю. А. Кутыриной. По ее воспоминаниям[20], среди частых гостей Шмелева – писатели В. Н. Ладыженский, Куприн, Саша Черный. Последние два – активные сотрудники «Русской газеты в Париже» (1923–1925). Менялось название издания – «Русская газета», менялся состав редакции, но неизменным ее редактором оставался публицист А. И. Филиппов. Французский журналист С. Лозан так описывает условия, в которых создавалась газета: маленькое помещение винного погребка… разговоры с Куприным и Филипповым, который с гордостью сообщает, что у них сотрудничают лучшие русские писатели (туда действительно писали Бунин, Куприн, Шмелев, Саша Черный, А. Т. Аверченко, И. С. Лукаш, В. В. Шульгин)… наконец, типографская «кухня»: «Сильным рывком бывший гвардейский офицер потянул тачку и пропал с нею в ночи, унося четыре тяжелые страницы из свинца, над которыми все эти люди работали 12 часов и вложили, я не знаю, какую смесь и пота, и души»