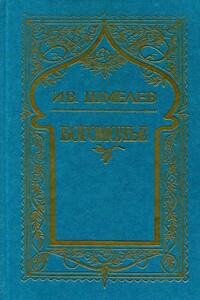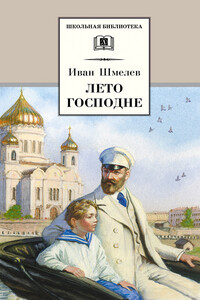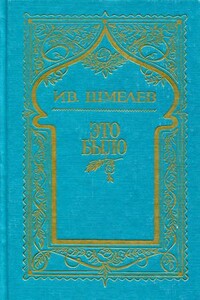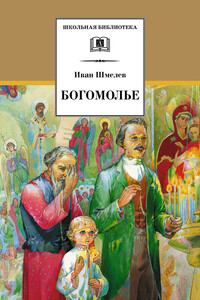Том 2. Въезд в Париж | страница 7
Вероятно, по «времени изображения» к этим рассказам можно отнести и «Старый Валаам» (1936), заново написанный по первой юношеской книге «На скалах Валаама». Экземпляр книги привез ему писатель Б К. Зайцев из самого монастыря, куда ездил в 1935 году. Благодарный Шмелев откликнулся письмом:
«В Коневском скиту говели?! По-мню… озерко, дождик, и в сарайчике схимонах Сисой с чернобородым монашком (л<ет> 45–50) и лучок очищает от ботвы. Рассказал мне про птицу-гагару… Схим<онах> Федот… не тот ли черный монах? Ему теперь д<олжно> б<ыть> лет под 80. Именно – во пустыне были Вы <…> Хотел бы, перед недалеким концом, окинуть взором беглым все, на что молодые глаза смотрели безмятежно, юные глаза… Сколько было после.! И – для чего пережито?! Нет, лучше, пожалуй, и не „окидывать“ – взроешь душу»[16].
Но «по духу» «Старый Валаам» ближе уже к более поздним вещам Шмелева – «Богомолью» и «Лету Господню». Так же, как и в этих романах, Иван Сергеевич описывает в книге церковные обряды, в данном случае – монастырские. Объясняет, «что значит „благословение“, как положено отвечать на „входную молитву“, каков чин монастырской трапезы, в чем суть отшельничества, иконописания и др.»[17]. Начиная с 1930-х годов, писатель интересуется монастырской темой: в 1936 году едет в Псково-Печерский монастырь (очерк «Рубеж» написан по впечатлениям поездки), в 1937-1938-м – в обитель преподобного Иова Печерского в Карпатах, где был издан «Старый Валаам».
Сближают книгу с поздними вещами и размышления героев: о спасении души, о воспитании воли, о чудесах, о смерти, о молитве. Это уже тот Шмелев, который мог писать племяннице в 1948 году: «Милая моя, держись молитвой! Все мы – в испытаниях. Надо переносить, вытерпливать. Такой удел – назначенный, – м<ожет> б<ыть> избранным: закалка! Помни о Христе, о его заповедях блаженства. <…> Не отчаивайся. Мы часто не понимаем: что для нас РАНА, и что – лишь царапина!?»[18] Это тот Шмелев, который чувствует незримо присутствие мира иного. Тот, который все-таки «окинул взглядом» свое прошлое – подвел итог былым заблуждениям (обратим внимание на перекличку слов из письма Б. К. Зайцеву со строками очерка «У старца Варнавы»):
«Валаам прошел виденьем: богомольцы, люди, плеск Ладоги, гранитные кресты, скиты, молчальники и схимонахи… Кельи в густых лесах, гагара-птица на глухом озерке, схимонах Сысой с гагарой-птицей… – „все во Христе, родимый… и гагара-птица во Христе…“ – олени на дорогах, как свои… в полночный час за дверью – „время пе-нию… моли-тве ча-а-ас!..“ – блеск белоснежный храма, лазурь и золото над небом, над лесом, жития… и написалась книга, ПУТЬ открылся. Батюшка-Варнава БЛАГОСЛОВИЛ „на путь“. Дал КРЕСТИК и благословил. КРЕСТИК – и страдания, и радость. Так и верю»