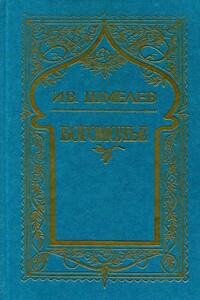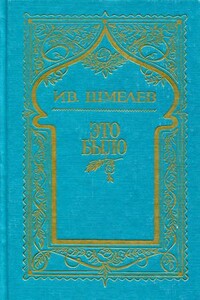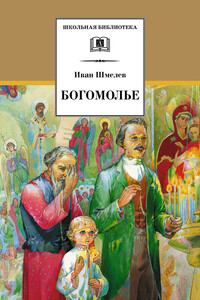Том 2. Въезд в Париж | страница 65
– Мятется во мне, и психологию я знаю, но это превыше всякой ученой психологии! Высший Разум – Господь в сердцах человеческих. И не в едином, а купно со всеми. Это и это, – показал он на голову и на сердце, – но в согласовании неисповедимом. Как у Христа. Ковыль только на целине растет. И укрепился я духом. Сказал Мише: «Ревнуйте, братики, Бог нам прибежище и сила!» Будто и нехорошо? Да червячок-то по-червячиному хвалу поет, а свинья хрюкает! Да будем же хоть и по-свиному возноситься! И до орла. И до истинного подобия Бога-Света… Да как посмотрел на паству-то на свою – страшно и скорбно стало. Рвань та-ка-я, лица у всех убитые, зеленые, в тоске предсмертной. И сколько голодом поморили, а поубивали ско-лько! И все, чувствую, устремлены в упованье на меня: «Подаждь, Господи!» И ропот во мне поднялся: «Куда же, Господи, ведешь нас?! Зачем испытуешь так?»
Вы знаете нашу пристань. Слева, где ресторанчик пустой на сваях, поближе к пристани, поставили они кресло под красным бархатом, и на том кресле, смотрю, сам окаянный сидит, Кребс-то наш, хозяин жизни и смерти, мальчишка, в лаковых сапогах и в офицерской папахе серой, и в светлом, офицерском, полушубке, с кармашками на груди. С убиенного снял себе! Сидит, как бес-Ирод, нога на ногу, развалясь, и курит. На позорище веры православной выехал! И свита его кругом, и трое за ним красных дураков наших, в шлыках и с ружьями. На позорище нашем угнездился. А у самой воды, на камушках, столик под розовой скатеркой, а на столике – бутылка для «причащения» и чурек татарский. И стоит идол тот, в хорошей шубе, с лисьим воротником, морда багровая, в громаднейшей лисьей шапке, как с протодьякона, Ворон-то окаянный, и красным кушаком подпоясан, как купчина, мясник с базара. А сбочку, гляжу: дурак-то наш, интеллигент-то наш скудоумный и скудосердый, учитель Иван Иваныч! Как червь, тощий, длинноногая оглобля согнутая, без шапчонки, плешивенький, ноги голенастые, голые, из-под горохового пальтишка видны. Стоит и дрожит скелетом, на грязное море смотрит, «крещения» дожидается. И татары возле него шумят, пальцами в него тычут, насмехаются. И все его шестеро ребятишек, босые, в пальтишках, жмутся! А его жена, гречанка, кричит на него источно, деток охраняет-вырывает, а он только ладошками взад отмахивается, ушел в себя. А Ворон из книги что-то вычитывает и рукой размахивает, как колдует. А Кребс покатывается на кресле и дым через папаху пускает, ногами сучит.