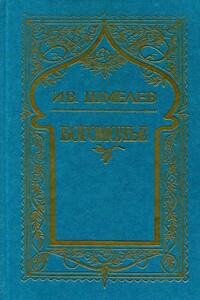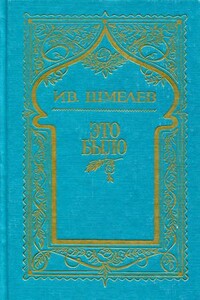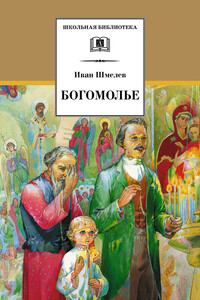Том 2. Въезд в Париж | страница 42
И чуть пройдется.
– Отпелась, Михал Иваныч, Кинареичка-то наша!..
И я узнал: наша красавица певунья – как она «Тройку» пела или – «Во поле березынька стояла»! – была сестрой милосердия, в Самаре ее арестовали на вокзале, и она пропала, а Василий Поликарпыч, уже после удара, посылал садовника Тимку – красноармейца, разузнавать в Самару. Дал живого золота Тимке с сотню – «только всю правду дознай про нашу Кинарейку!». Тимка таки дознался, гулял сними. Сказывали ему, что верно, была у них красавица певица, точь-в-точь такая, да только Маша, а не Даша; гоняли ее из тюрьмы петь солдатам, русские песни она пела; потом взял ее к себе на квартиру «главный», да она уж не пела больше, – и не видали. Что-то вышло, не говорили только. Сказал один в красной шапке, с которым кутил Тимка: вывели ее, понятно… все равно, так бы не отпустили! она офицерам служила, карточку при ней взяли!
– Помните, бывал у нас сын генерала Хворостова, улан-то? С ним она и поехала отсюда… Вот какие дела-то у нас, Михал Иваныч… А может, и найдется!..
Старик остановил лошадей, обернулся ко мне и, поглядывая к кустам, стал загибать на пальцах:
– …Вот сколько выходит, по одим соседям… семнадцать человек перегубили! Наших душегубцев один всего оказался… телеграфист со станции, Алешка, такой, помните, волосатый? депеши возил, бывало? Такой лютый людоед взялся… Василию Поликарпычу в рот пистолет совал, – где деньги?! А бывало, полтинник получит, до самого забора козыряет!..
Я привык в трудные минуты обращаться к медицине. Всегда она при мне в приличной дозе. И тут, услыхав о моих стариках и певунье-Даше, – с детства я живал в Манине, как родной, – мой покойный отец был из той же ярославской деревни, торговал зеленым горошком, – я почувствовал, что пружина ослабела и надо зарядиться.
– Постой-ка, Левон Матвеич… – сказал я ему и щелкнул себя по горлу, – «колеса смазать…».
У березок мы остановились. Я произвел смешение жидкостей в должной мере, и мы помянули прошлое, закусив яблочком.
– Михал Иваныч!.. Ангел вопияще!.. – бодал лысиной Левон Матвеич.
А я посматривал на березки. Милые вы мои, все те же… И травка та же, родная, горевая. И пахнет… помните, в хрестоматии… Гоголь, что ли… или Толстой… – «И пахнет свежей горечью полыни, медом гречихи и кашки»! Мне за это на экзамене влетело, за диктовку!
– Выпьем, старик! – налил я по второму, а он плачет.
– Михал Иваныч… Теперь хорошо, никто не видит… будто опять слободно, с вами. Осветили! Крови-то сколько приняла, впитала… – похлопал он по травке.