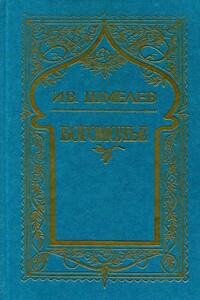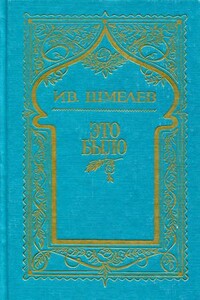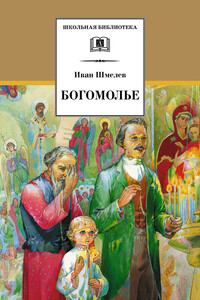Том 2. Въезд в Париж | страница 39
– Помните одно: дипломатические осложнения возникнуть могут! Англичане слишком упрямы, обвдчивы… – связались с ними!..
Взял паровоз – айда!
На станции меня уже ждала разбитая пролетка парой. Кучерок потертый, старичок, остаток чей-то. Но каково же было удивленье! Знакомый оказался, Левон Матвеич, из Манина! Этого не ожидал никак. Совхоз «Либкнехтово»-то оказался совсем родной: Манино так окрестили, бывшее гнездо близких мне стариков, которых я считал умершими! Все эти годы мытарили меня по фронтам, по эпидемиям. Вернулся – в сыпняк свалился. Дела, метанья, все из головы пропало. А еще в 18-м году писали мне, что Василий Поликарпыч Печкин скончался от удара, а Марья Тимофеевна уехала куда-то. Ну, подумал, мужички прогнали! Внуки у них пропали, знал я это: один у Колчака, другого где-то расстреляли. Оба – были офицеры, из реалистиков. Сын Печкина, уже в годах, крупный колониалыцик, от тифа помер, в каземате. Все развалилось… А в Манино все собирался, – от попа узнаю! И вдруг…
– Батюшка, Михал Иваныч… живы?! А у нас-то говорили, солдатишка воротился ихний… расстреляли, говорит, его за спирт! Сам будто видел!
Здорово сдал старик, лысина одна осталась да зуб торчком, со свистом. Заплата на заплате, босиком, веревкой подпоясан. А бывало, – в малиновой рубахе, шелковой, в синей безрукавке, сухенький такой, субтильный, бородка подстрижена в пакетик, на головке бархатная шапочка, в перышках павлиньих, синий кушачок с серебрецом, и ручки – стальные кулачонки. Бывают ямщики такие, ярославцы, особой крови, полукровки. Половые тоже.
Заплакал даже, как увидал меня. И все в оглядку, шепотком все, – запугали, видно. Нервные они – такие.
А верно, было: судили меня за спирт, за спаиванье комсостава, да командарм вступился: пивал и с ним я. Ветеринар! ну – сами понимают, при лошадях! «Телеграф расейский» тут не соврал. Почти.
И чудеса опять: старики-то живы оказались! Верно, был с Василием Поликарпычем удар, и Марья Тимофевна с полгода где-то пропадала: разыскивала внуков. Золото возила – не нашла. И золото запхала в чьи-то хайла – не открылись хайла.
До Манина верст десять было. Много мне старик поведал-выплакал, зубом свистал, слезами досказал. Василий Поликарпыч в параличе, живут на скотном, выгнали из дома. За главного – товарищ Ситик…
– Си-тик! Не Ситник… а, сказывает… грузинский молдаван, черный ходит, на манер цыгана. А то видали – рыжий, вот как корова… как смоется! Краской, что ли, мажет… Помните, в зальце-то у них была икона «Все Праздники»? Себе оставил. Думали: ну что ж, хрещеный человек… порадовалась даже Марья Тимофевна. На редкость ведь! Ну, ризу снял… серебряная, плотная. Смотрю, хлеб на иконе режет! Я ему еще сказал: «Так не годится, мне лучше подарите!» – «Глупый ты, говорит, старик. Я святым делом занимаюсь, хлеб – самое святое дело!» Сукин сын… всю исполосовал, все-то лики исчаряпал как!.. А-а, Михал Иваныч?., чашу-то какую разбили! И все свиньям под хвост. Сердце истаяло, глядемши. Что же это допущено? Михал Иваныч?! Сколько выхожено было… Тридцать четвертый год я здесь, все видел. Василий Поликарпыч лежит, не узнает своих. Марья Тимофевна в скотницах у них… уж упросила, чтобы коров доить дозволили… молочной частью ведует… Да что, от ста коров четыре всего осталось. Вот такое награжденье за их труды! Михал Иваныч?.. А теперь что будет!.. Все, должно, погибнем…