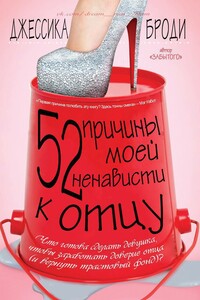Несчастный случай | страница 80
— Она оказала, у него красивые ресницы! Спроси у него, что она сказала про его ресницы! Вот это самое и сказала!
Что же было потом?
На замершей лужайке замерли все лица, все завтраки лежали нетронутыми: так возле дохлой собаки собираются живые, которые сбежались за несколько миль, чтобы обнюхать ее; на замершей лужайке стояла грузная мисс Оливер, греясь на солнце и ни на кого не глядя.
Что же было потом?
— Еврейские глаза!
Но это же не о цветке, не об истине, не о каком-то предмете.
— Еврейские глаза!
Не о мальчике, не о мужчине, не о человеке.
О чем же? Почему? (Опять вопросы.)
О двери, которая уже не откроется. Тикают часы, цветы колышутся.
Он медленно пошел по замершей лужайке и почти закричал:
— Мне плевать на то, что говорит Толстуха Оливер. Что бы она там ни говорила, мне безразлично, — и краска разлилась по его лицу, краска разлилась по всему его телу.
Тикают часы, и спящий двигает ногами, двигается всем телом, чтобы увидеть.
Но мальчики отступают к краю площадки, и глаза его загораются ярким, как солнце, блеском. Часы тикают, а вопросы похожи на цветы.
Мальчик пошел прямо через лужайку, прочь от всех, но глаза его блестели, словно вопрошающие глаза подопытного зверька, мятущегося между инстинктом и дверью, которая может открыться или не открыться.
Почему? (Но не на все вопросы находится ответ, и не всегда стоит спрашивать.)
Он шел и шел, хотя глаза его, горящие и жгучие, стали мягче от обиды, повлажнели от стыда и смотрят в одну точку. Вопрос: поддается ли эта дверь (та, что с цветком)?
Глаза красные, как солнце, густо-красного цвета, как эритема, появившаяся на животе Нолана в начале третьего дня (в соответствии с вычисленной дозой облучения) и уже не исчезавшая до конца; «реакция кожных покровов торса в данном случае представляет интересные особенности».
Тикают часы; глаза обращаются в сторону, и никто не может увидеть то, что видят они или что застыло в зрачках, можно только догадаться, да и то не всегда. Спящий двигается, и рубашка ползет кверху.
Глаза открываются, взгляд вбирает в себя часы в ногах кровати и цветок на подоконнике.
С улицы, за два квартала, доносится затихающий гомон пассажиров, которых привез автобус из Санта-Фе.
На часах еще нет семи; белеет заснувший цветок, простыни сбиты к ногам, рубашка сбилась кверху и открыла ноги, но только до колен.