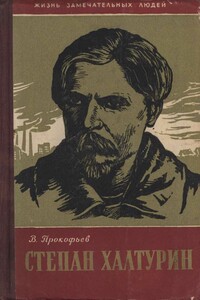Сподвижники Чернышевского | страница 50
Вот и первый снег побелил маленький голый комендантский дворик, осел на форточке и усилил грусть.
Но скоро из того, не крепостного, мира пришли первые вести в виде папирос, рябчиков, отличной икры, солений.
Михайлов радовался, как ребенок. Он не был таким уж гурманом, чтобы не есть тюремной похлебки, но рябчики, несомненно, вкуснее, да дело и не в них — его не забыли, чьи-то заботливые руки упаковывали для него эти банки с икрой, чьи-то любящие души напоминали о жизни, о том, что она впереди и не огорожена стенами.
Да и тюремщики оказались разными, не то что в императорской канцелярии. Комендант — формалист, сух, педантичен. Плац-майор Кандауров любезен, разговорчив, душевен. Он уверен, что Михайлова скоро выпустят.
Какое счастье, что с ним его книги и есть возможность получать свежие журналы!
Даже «Современник» добирается сюда. Вот сентябрьский номер, октябрьская книга. Он узнает статьи Чернышевского. Значит, Николай Гаврилович вернулся из Саратова и на свободе, его не коснулась грязная лапа Костомарова.
Но почему в последних номерах нет статей Добролюбова? Он был плох, когда Михайлов видел его в последний раз.
Он умирает, и этого ничем не предотвратить.
От таких мыслей опять становилось тяжело.
Но были, были в этом заточении и радостные минуты, даже дни.
Ему удалось сблизиться с плац-адъютантом Пинкорнелли, и добрейший штабс-капитан наладил доставку писем на волю и с воли.
Теперь у него много работы.
Михайлов лихорадочно пишет и пишет письма, и прежде всего Шелгуновой.
В эти же дни его начали возить в первое отделение пятого департамента сената на допросы.
У Михаила Илларионовича было время рассмотреть своих судей, пока ему делали «духовное увещание» и поп нес какую-то дичь из евангелия.
Сенаторы напоминали «позолоченных бурханов».
Из-за длинного стола на Михайлова смотрели хитрые, злобные, равнодушные и просто пустые лица.
Бесконечные вопросы. Вновь нужно было не только отвечать, но и собственноручно записывать эти ответы, и все это при полном молчании или злобном сопении судей.
Но у ворот Галерной, на лестницах сената, во дворе Михайлов отдыхал душой. Он понимал, что толпы молодежи, и не только молодежи, собрались здесь ради него.
Приветственные улыбки, слова одобрения, возгласы восхищения заливали грудь теплым чувством гордости за этих людей, позволяли переносить пытку допросов, ненависть судей, одиночку крепости.
Даже сенатские чиновники проявляли необычайное любопытство к человеку, давшему первым свое имя политическому процессу в эти годы «либеральничанья» правительства. Они выскакивали из своих кабинетов, собирались сотнями в коридорах и молча тянулись на носках, чтобы разглядеть поэта.