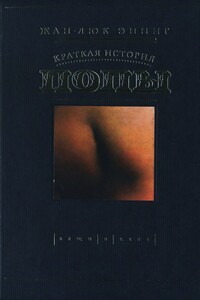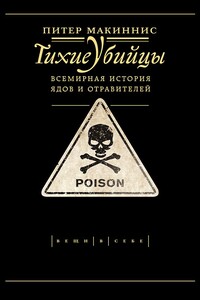Происхождение вилки. История правильной еды | страница 54
Со временем во французских поваренных книгах специям стала отводиться незначительная роль. Несомненно, кухня, зафиксированная в рецептах, менее консервативна, чем кухня народная, но несомненно и то, что именно она «диктует моду» и что простолюдины уже давно научились заменять слишком дорогие заморские специи местными травами. Когда специи перестали быть «едой для знати», они перестали быть предметом бахвальства, а значит, и упали в цене. Интересно отметить, что перец продолжают класть в еду в Тоскане, а гвоздику — в некоторые блюда в Пьемонте; просто сельскому населению свойственно хранить традиции, а когда простолюдинам стала доступна «еда богатых», они стали этим гордиться. То, что уже не является роскошью для господ, становится роскошью для крестьян. Специи для них все равно оставались достаточно дорогими, но они не могли отказать себе в этой маленькой роскоши.
Вверху: Гвоздика и ваниль. Гравюры из книги «Общая история лекарственных средств» Пьера Поме. Париж, 1694
Внизу: Мускатный орех. Гравюра из книги «Речи» Пьетро Андреа Маттиоли. Венеция, 1568. Лист корицы. Гравюра из книги «Диалог о коричном дереве» Микеле и Бальдассаре Камни, 1654
Постепенно специи становились все доступней, но их цена все равно снижалась не очень сильно, ведь специи нужно было покупать, поскольку они не росли в огороде. Стало быть, если какой-нибудь крестьянин потреблял специи, это означало, что у него есть деньги. Тут следует напомнить вот о чем: тяжелая жизнь сельского населения не обязательно была голодной. Крестьяне вполне могли позволить себе есть досыта; страдали они в основном не от голода, а от отсутствия денег, на которые можно было купить что-нибудь, произведенное в городе и не являющееся предметом первой необходимости.
Гастон Башлар, которого цитирует Бродель, пишет по этому поводу следующее: «Получение излишнего вызывает большее эмоциональное возбуждение, чем получение необходимого. Человек — дитя желания, а не потребности». Ему вторит Марсель Мосс: «Не производство было главным двигателем человеческого общества, а роскошь».
Можно было отказаться от того, чтобы съесть курицу из собственного курятника, с тем чтобы продать ее, выручить деньги и направить их на удовлетворение своих желаний. Португальское изречение, услышанное мною от Витторио Гуандалини, поразило меня своим сходством с поговоркой, распространенной и в Лигурии, и в Пьемонте. Смысл их таков: «Если крестьянин сам съедает свою курицу, значит, кто-то из них двоих болен». В португальской поговорке фигурирует «бедняк», в лигурийской — «крестьянин», но и тот и другой в обычной ситуации предпочтут не есть курицу, а выручить за нее денег.