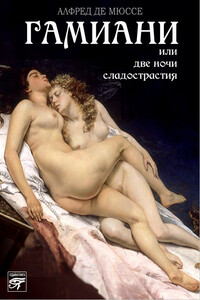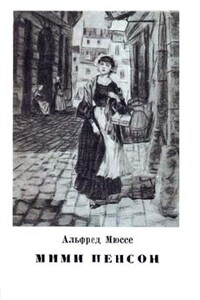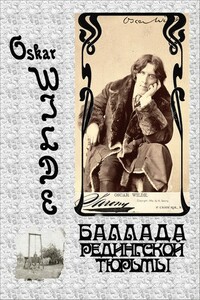Поэты «Искры». Том 1 | страница 16
Много подобных намеков и у Минаева. Так, юмористические куплеты «Роковое число» [30]кончаются строками:
Без сомнения, речь идет здесь о III Отделении.
В большинстве случаев намек содержится в одной или нескольких деталях, но иногда он является ключом к общему замыслу произведения. Своеобразная игра намеками лежит в основе стихотворения Минаева «Современные стансы»[31], где в конце каждой строфы повторяется:
Но предполагаемое и ожидаемое слово «конституция» ни разу так и не произносится: читателю все время дается иная, цензурная и, разумеется, мнимая разгадка («концессия другая, третья», «консервативная газета», «кончина бабушки богатой», «конно-железная дорога» и пр.). Однако эти мнимые разгадки не только не устраняют из его сознания подлинной разгадки, а еще сильнее влекут его мысль к подразумеваемому, хотя и не произнесенному слову.
Широкое использование намеков было вызвано цензурными условиями, невозможностью говорить о многих вопросах прямо и открыто. Но не всегда, конечно, это явление связано непосредственно с цензурой. Нередко на недосказанности и иносказании, рассчитанных на догадливость читателя, построен комический эффект произведения. Намек, недосказанность иногда служат своеобразным художественным средством, возбуждающим активный интерес читателя к факту или явлению, о котором пишет поэт. Герцен отметил специфическое отношение между писателем и читателем, возникающее при этом. «Иносказательная речь, — читаем в его сочинении „О развитии революционных идей в России“, — хранит следы волнения, борьбы; в ней больше страсти, чем в простом изложении… Говорить так, чтобы мысль была ясна, но чтобы слова для нее находил сам читатель, — лучший способ убеждать… Читатель, знающий, насколько писатель должен быть осторожен, читает его внимательно; между ним и автором устанавливается тайная связь: один скрывает то, что он пишет, а другой то, что понимает»[32].
Среди разнообразных сатирических приемов, которыми пользовались искровцы, следует остановиться подробнее на одном, к которому они прибегали особенно часто. Это прием «маски», повествования от имени подставного лица, которое не только не тождественно с авторским, но служит основным объектом сатирического разоблачения. Таким образом мы как бы присутствуем при самораскрытии и саморазоблачении героя. Общий смысл такого построения заключается в том, что враждебный поэту образ мыслей доводится до логического конца и вместе с тем до предельной уродливости и развенчивается как бы изнутри. Иногда, впрочем, маска просто создавала позицию, с которой было легче говорить на запретные темы. Так обстоит дело в «Письме из России Фукидзи-Жен-Ициро к другу его Фукуте Чао-Цее-Цию» В. Курочкина.