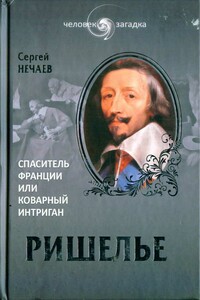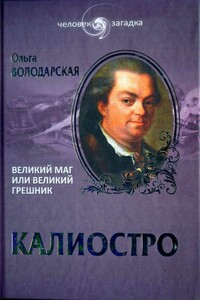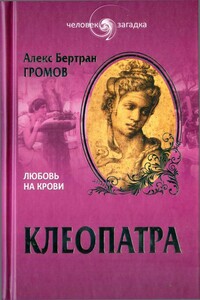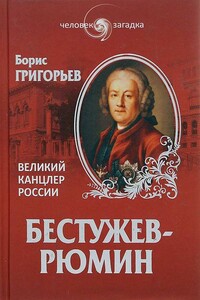Николай Рерих. Запечатлевший тайну | страница 47
Сыновья Рерихов стали продолжателями дела всей жилиц своих выдающихся родителей, в разные годы возвратив на родину их философское и художественное наследие, знамение которого для будущей культуры России практически невозможно переоценить.
При всем новаторстве русских художников той поры работы Н.К. Рериха, возможно, были для публики самыми необычными, поскольку, во-первых, сочетали в себе элементы целого ряда относившихся к различным эпохам стилен: станковой живописи, театрально-декоративного, иконописного, фрескового, мозаичного; во-вторых, несли в себе глубокие познания историка, этнографа и археолога, и, в-третьих, были предельно эмоциональны, преимущественно возвышенно романтичны. Все вместе это поражало, и посетители выставок, не привыкшие к таким смелым творческим смешениям, просто не знали, как реагировать на такой синтетический подход. Понимавших масштаб мысли автора и искренне хваливших, как всегда это бывает, были лишь единицы. Завидующих таланту было значительно больше. Но Николай Константинович продолжал писать новые и новые работы.
Во время работы в Париже им были задуманы новые произведения на славянскую тематику и среди них "Облачные девы", "Ярило", "Скифы", "Татары пируют па телах русских при Калке". К 1901 году были закончены "Красные паруса", "Зловещие", "Заморские гости". В рассказе "По пути из варяг в греки" к последней картине автор создал красочное описание, объясняющее настроение, с которым работал над картиной. Незадолго до ее создания Н.К. Рерих совершил путешествие по "великому водному пути" до Новгорода. В стародавние времена этим же путем "плавали ладьи варяжские, Садко богатого гостя вольные струги, проплывала Новугородская рать на роковую Шелонскую битву".
"Плывут полунощные гости, — пишет Николай Константинович. — Светлой полосой тянется пологий берег Финского залива. Вода точно напиталась синевой ясного, весеннего неба; ветер рябит по ней, сгоняя матово-лиловатые полосы и круги. Стайка чаек спустилась на волны, беспечно на них закачалась и лишь под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями — всполошило их мирную жизнь что-то малознакомое, невиданное. Новая струя пробивается по стоячей воде, бежит она в вековую славянскую жизнь, пройдет через леса и болота, перекатится широким полем, подымет роды славянские — увидят они редких, незнакомых гостей, подивуются они на их строй боевой, на их заморский обычай.
Длинным рядом идут ладьи; яркая раскраска горит на солнце. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким, стройным носом-драконом. Полосы красные, зеленые, желтые и синие наведены вдоль ладьи. У дракона пасть красная, горло синее, а грива и перья зеленые. На килевом бревне пустого места не видно — все резное: крестики, точки, кружки, переплетаясь, дают самый сложный узор. Другие части ладьи тоже резьбой изукрашены; с любовью отделаны все мелочи, изумляешься им теперь в музеях и, тщетно стараясь оторваться от теперешней практической жизни, робко пробуешь воспроизвести их — в большинстве случаев совершенно неудачно, потому что, полные кичливого, холодного изучения, мы не даем себе труда постичь дух современной этим предметам искусства эпохи, полюбить ее — славную, полную дикого простора и воли".