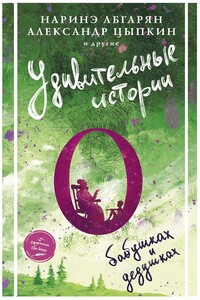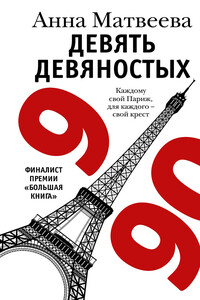14. Женская проза «нулевых» | страница 53
Когда он падал, а потом говорил своему коню (вороному, и еще ярче, контрастней становилась вся картинка: черное с красным – на белом), – когда он падал и говорил пафосные слова про кровь за рабочих, Идке не хотелось плакать: она понимала, что так было нужно, по-другому просто не могло быть. Но сейчас в новом свете представилась ей эта картина: по законам бреда всё смешалось в ее представлении, и это был уже не боец из буденовских войск, а Одиссей, который достиг наконец своей Итаки. Падая с коня, спокойно и просто закрывая глаза, умирая здесь – он поднимался уже там, в Итаке, и мерной, твердой походкой вечного скитальца шел к своему дворцу, где ждала его верная Пенелопа. Идка видела, что там он тоже живой, только теперь белый – белый на белом.
Потом она не могла бы рассказать, как, по каким неявным, но естественным связям сложились у нее вместе эти образы, но они сложились, и открылось простое и ясное, успокаивающее знание. Оно пришло тогда, в гибкости и непредсказуемости бредового сознания, так, как не могло бы прийти потом никогда, даже когда Идка стала взрослой и долго и трудно обо всём этом думала. Но тогда открылось легко; и она плыла в этой ясности и легкости, в белом свете плыла она, белая на белом, и ощущала всё великим, огромным. Но что это? – спрашивала она, – а это весь мир, отвечала сама себе; я изнутри, я в нем, весь мир и есть я. И плыла, и качалась, а потом кто-то звать стал ее: Идка, Итка, Итака, и та та та така, и так, так, так, так.
И вдруг белизна сжалась и стала яйцом, гигантским белым яйцом в абсолютной черноте. И омерзение, болезненное, физическое ощущение возникло у Идки от этого яйца. Оно дышало, пульсировало, в нем билась жизнь, билась, билась и не могла покинуть его, и не было уже того простора, ясности и простоты, которая была только что, когда плыла она в белизне.
– Что это? – спрашивала Идка, сглатывая подступавшую тошноту.
– И это я, – отвечала она сама себе, и яйцо начинало расти, оно росло до невыносимости, до неизбежности, вот-вот оно задавит ее – но в самый последний момент распадалось и становилось благодатной и всепоглощающей белизной, и Идка снова плыла, плыла, и уже уплывала куда-то, в свою неведомую, прекрасную Итаку, и спокойно становилось ей уже, и хорошо – как вдруг опять кто-то начинал звать: Идка Итка И та та та така…