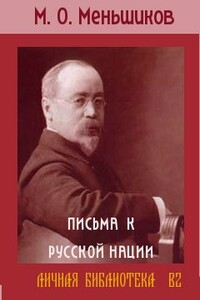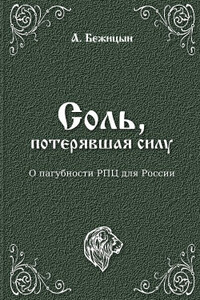Из писем к ближним | страница 18
Я не стану объяснять это тонкое страдание, но оно не кажется мне благородным. Тайная причина его - эгоизм.
Кто ближний мой?
Этот вопрос евангельского законника задает теперь Христу все культурное общество древнее и изнеженное, как и тот класс, к которому принадлежал законник. Нынче столько говорят о нищете, но никогда не было на свете такого огромного множества богатых людей, как теперь, и судьба этого класса, перегорающего в сладострастии ума и чувства, весьма загадочна. Она не менее трагична, чем судьба нищих. Что делается в пучинах народных, для нас темно, - но богатое и образованное общество неудержимо падает до декаданса, до нравственного изнеможения. Совершенно как в эпоху Экклезиаста здесь, на вершинах счастья, начинает чувствоваться "томление духа", пустота и ненужность жизни. Начинает казаться, что уже нет ближних, что не для кого жить, некому молиться. И, может быть, как только воздушные корабли и телеграфы сделают всех близкими, - окончательно исчезнут ближние, исчезнет этот древний прекрасный религиозно-поэтический порядок человеческих отношений. "Ближний", значит родной, но чувство родства неудержимо падает в современном обществе - и в охлажденной, рассеянной семье, и в государстве, слишком разросшемся, вышедшем из берегов. Современная культурная семья или не имеет детей, или, позволив себе эту роскошь, предоставляем воспитание их "рабам" - гувернанткам, боннам, учителям, меняющимся как в калейдоскопе. Ребенок нынче уже редко знает очарование "семейного очага" тесного, дружного, связанного навеки кружка людей, среди которых он просыпается к сознанию. Вместе замкнутой семьи перед ним открытое, как площадь общество с беспрерывною сменою лиц, толпа товарищей, которые не имеют времени сделаться друзьями и точно вихрем рассеиваются по свету. Специализм, приковывающий каждого у его конторки, слишком запутавшиеся, слишком зависимые от всего отношения, худо скрытая, упорная конкуренция, затаенная борьба каждого против всех - все это вырабатывает тот социальный страх, который отравляет жизнь самым обеспеченным слоям. Достигнутое благополучие кажется или недостаточным, или непрочным; за него боятся, но его не ценят. Вся мысль, вся страсть современного культурного человека сосредоточивается на своей личности, и он впадает в ту форму помешательства, которая составляет общую почву всех других душевных болезней - в эгоизм. Эгоизм вовсе не естественное состояние, как иные думают; - это расстройство души, хотя бы и всеобще распространенное. Эгоизм культурных классов - особенно на Западе - кончает отчаянием. И невольно, и добровольно замкнувшись в себе, душа чувствует себя одинокой, от всего далекой, совсем затерянной. Все теперь чужие все внутренне далекие, тогда как десятками тысячелетий человек воспитывался как "существо общественное", нуждающееся в том, чтобы его любили и чтобы было кого-нибудь любить. Казалось бы, так просто: кто хочет любить, тот полюбит, но во множестве людей - как предсказано в Евангелии на верхах культуры уменьшилась любовь. Лихорадочная забота о путях сообщения, как в век римского упадка, похожа на поиски потерянных ближних, на жажду все более и более тесного, непрерывного соединения- всех со всеми. Но иногда хочется сказать: - Полно, господа, расстояние ли разъединяет людей? Можно стоять рядом и в то же время бесконечно далеко. Помните: "Шел священник и прошел мимо", "подошел левит, посмотрел и прошел мимо". Раз потеряна способность "увидеть и сжалиться" - и нет ближнего, и как будто двух людей, стоящих рядом, разделяют океаны и материки.