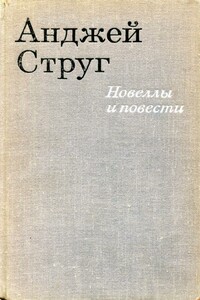Том 4. Карусель; Тройка, семёрка, туз…; Маршал сломанной собаки | страница 130
«Кто он?» – говорит Клава Милке. «Спортсмен Винцас из Вильнюса, – врет Милка. – Приезжал на первенство страны. Не бей меня, мамочка, мне плохо и обидно. Я больше не буду!..» – «Будешь, – говорит Клава, – но с умом или в замужестве. Тебе ясно?» – «Ясно, мамочка!..» И тут женщины долго рыдали и плакали, обнявшись друг с другом так, что я взревновал и стал ждать ночи. Я и так не переставал любить Клаву, но от ее похудевшей на сорок кило внешности кровь моя неслыханно забурлила и зачесались десны, как у мальчика.
Тут мы хватились Валеры. Час ночи – нет Валеры. Два часа – его нет.
Лежим с Клавой, и нам не до любви, хотя при закрытых глазах мне кажется, что рядом со мною не Клавочка, а какая-то другая незнакомая, но тем не менее родная и желанная дамочка, с которой я безобидно изменяю Клавочке в командировке. И вот наконец является эта скотина Валера – пьяный, как свинтус. Клава ни слова не сказала ему в упрек. Всунула свои два пальца ему в рот, его вырвало, она его вымыла в ванной, уложила спать, вернулась ко мне и говорит: «Он живет с женщиной. Надо ехать, Соломоша, иначе дети тут пропадут. Попала в них зараза времени». – «От времени, – вякаю, – никуда не денешься». – «Все решено, – говорит Клава, – едем, хуже, чем в этой помойной яме, где пьют с двенадцати лет и ебутся с грязными шлюхами, нигде не будет.
Едем!..» – «Хорошо, – говорю, – но сначала иди сюда, Клава».
Боже мой! Мы были в ту ночь молодыми людьми – и я и Клава; она клялась мне, что никогда еще за все годы так меня не желала и не получала такого неимоверного удовольствия и что все это от многодневного голода в клинике. Я таки просто выделывал чудеса на видоизменившейся стройной и легкой женушке, пока не изогнулся неудачно в один из интересных моментов и меня не пригвоздила к постели радикулитная заунывная боль…
Утром Валера с похмелья не пошел в школу. Четырнадцать лет человеку, а он уже жлухает с жадностью огуречный рассол и стонет, пьянчуга, от головной боли. «Ничего, сыночек, – говорит Клава, – вот-вот я тебя вылечу. Подожди чуток, подожди, миленький. Я вас обоих сейчас на ноги поставлю». Звонит куда-то наша мать по телефону. Затем собирает белье чистое, полотенца, вызывает такси и говорит мне: «Вставай, в баню едем». С трудом посадили меня в такси. Приезжаем в баню. Заходим в отдельный номер. Только мы в нем трое, больше никого. Одно из многочисленных Клавиных знакомств. Нас Клава раздела догола в предбаннике, сама осталась в лифчике и ситцевой юбке. Залез я кое-как на полок. Скорчило меня болью и перекособочило. «Ты, – говорю, – идиотка, Клава, жадность твоя вылечить авансом все болячки губит меня. Зачем я проверял этот проклятый радикулит?» Что делать? С одной стороны, нас мучают светлым будущим, с другой – будущими хворобами. «Ой, – говорю, – я отсюда уже не слезу, и мой сын – развратная пьяница, а дочь моя – бедная девочка с погибшей молодостью». Тут Клава, поддав с кваском, припечатала меня к полку своими ручищами, лежи, говорит, старая жопа, не вертухайся. И потек еврейский пот из моего тела от великой русской бани. Я не был новичком в парной, но в этот раз Клава наподдавала так, что обжигало ноздри, рот и припекало лысину. «Лежи, старый, лежи, в Израиле твоем и в Америке баньки такой не будет», – говорит Клава и овевает меня поначалу двумя веничками. И не вырваться из-под ее рук, не скатиться с полка от невозго пекла.