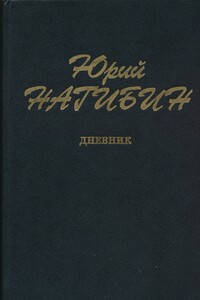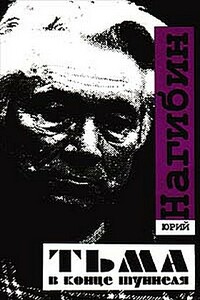Река Гераклита | страница 33
— Тоскую, старая. — Дядя Миша, верно, знал, что она придет, он не высказывает ни удивления, ни испуга, ни, тем более, недовольства, похоже, он даже рад ей.
— Томишься?
— Томлюсь, старая.
— Ну и дурак ты, малый, больше ничего.
— Известно — дурак, а с того не легче.
— Знаешь, когда рыцарю смерть за спину села?..
— Струсил он, что ли, когда?..
— Вот, сам же говоришь. И у тебя гостья за спиной, а у меня нету, вишь, нету! — большими, как сковороды, руками, она накрест хлопает себя по остро торчащим лопаткам, уже становящимся крыльями.
— Ты не врешь, старая?
— Чего врать-то? Я страх этот смолоду из себя выплюнула. И легко моему коню меня одну нести.
— Может, ты вообще не помрешь?
— Как же я могу помереть, коли я ее до себя не допускаю?
— Ври больше, старая. Помрешь, за милую душу, гляди, до утра не протянешь.
— Не помру я — усну, громаднейшая разница.
— Все одно — конец.
— Ан нет! Ты уже сколько раз помирал?.. Не считал, поди. А я — так ни разу. Я вечно живой пребуду, коль не боюсь ее.
— Бабу-унь! — тянет дядя Миша и неловко, сшибая с углов свечи, садится на столе.
— Ну?!
— Эликсирцу… Ничего душа не держит.
— Экой же ты ничтожный!.. Неужто так тебе боязно? — спрашивает старуха вроде бы с радостью.
— Боязно, — признается дядя Миша и начинает тихо плакать, держа свечку в левой руке, а правой елозя по мокрому лицу.
— А театры для чего представляешь?
— Приучить себя хочу. — Дядя Миша перестал плакать и почти капризно: — Ну, бабунь?..
— И чего тебе бояться-то, малый? — допытывается старуха. — Кому ты нужен?
— Как кому? — обиделся дядя Миша. — А жена? На кого я оставлю ее, рыбку мою?
— Будет врать-то! Больно ты о ней думаешь! Свинья ты, малый, бог тебе долгого веку не даст.
— Молчать!. — рявкает дядя Миша из последних остатков своего баса и самолюбия.
— Но, но, полегше! — холодно, предупреждающе роняет старуха, и дядя Миша мгновенно сникает.
— Бабунь, не сердись!.. Бабу-унь!..
Старуха погружает руку в долгий карман балахона, достает флягу и протягивает дяде Мише.
Тот сует ей почти догоревшую свечку, дрожащими пальцами отвинчивает колпачок и, наклонившись к фляжке, делает жадный, короткий, какой-то испуганный глоток. Большим и указательным пальцами, даже не послюнив их, старуха гасит свечи в шандале, берясь прямо за язычок пламени. Комната погружается во мрак, лишь теплится огарок, бросая красноватый отсвет на закрытые, будто мертвые глаза дяди Миши, переживающего целительный глоток. Большое, неподвижное лицо его с тишиной смеженных век скульптурно выразительно, почти красиво…