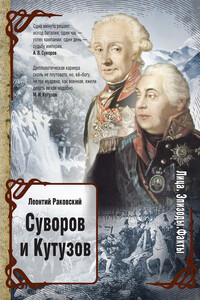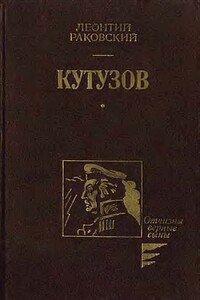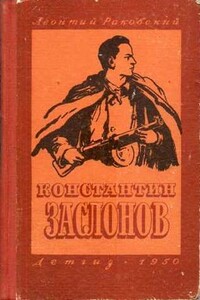Генералиссимус Суворов | страница 187
Просился у царицы в Польшу – на западе сгущались тучи. В Польшу Екатерина не пускала. Терпеливо ждал. Но глаз не спускал с запада. Опытный глаз видел: здесь заговорят пушки.
И он оказался прав, – дело началось.
Румянцев, российский Нестор, великий полководец, вызвал Суворова из Херсона. Дал поручение отвлекать поляков от главного театра военных действий.
Задача – обидно мала. Постыдно мала. Ему ли этим заниматься? И все-таки Суворов согласился: лишь бы поближе к делу!
И тут опять встрепенулся Петербург, все эти дворцовые паркетные шаркуны, все завистники. Постарались свести решение Румянцева к нулю: Суворов получил ордер – вместо сражений с врагом в поле устраивать магазейны, готовить провиант для других генералов, которые предполагали растянуть кампанию на год, не меньше.
А Суворов не собирался вести войну так долго. Еще до выступления в поход он обещал окончить все в сорок дней. И теперь обещанное сдержал: в сорок два дня кампания была закончена. У Суворова никогда и ни в чем слово не расходилось с делом. Одним ударом приобрел мир и положил конец кровопролитию!
События опередили всех петербургских курьеров. События шли суворовскими темпами.
Его чудо-богатыри взяли Крупчицы, взяли Брест, взяли Кобылку. Пала Прага – дело, подобное измаильскому.
И вот Суворов в самой Варшаве – победитель и умиротворитель.
«Ура, Варшава наша!» – написал он императрице.
В Польше настала долгожданная тишина.
Мир. Pokoj.
Кто старое помянет, тому глаз вон!
«Все предано забвению. В беседах обращаемся как друзья и братья», – писал Суворов Румянцеву.
Нет, петербургским указчикам за суворовскими штыками не угнаться!
…Суворов окунул перо в тушь и быстро застрочил:
«Почитая и любя нелицемерно Бога, а в нем и братий моих человеков, никогда не соблазняясь приманчивым пением сирен роскошной и беспечной жизни, обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем – временем – бережливо и деятельно, в обширном поле и в тихом уединении, которое я везде себе доставлял.
Намерения, с великим трудом обдуманные и еще с большим исполненные, с настойчивостью и часто с крайнею скоростию и неупущением непостоянного времени. Все сие, образованное по свойственной мне форме, часто доставляло мне победу над своенравною фортуною. Вот что я могу сказать про себя, оставляя современникам моим и потомству думать и говорить обо мне, что они думать и говорить пожелают.
Жизнь столь открытая и известная, какова моя, никогда и никаким биографом искажена быть не может. Всегда найдутся неложные свидетели истины, а более сего я не требую от того, кто почтет достойным трудиться обо мне, думать и писать. Сей-то есть масштаб, по которому я жил и по которому желал бы быть известным…»