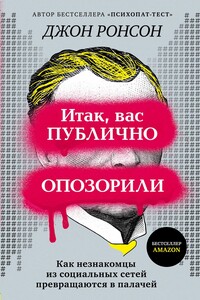Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла | страница 32
Таким образом, психология, признавая, что сознательное рассуждение приводит к моральному суждению, следовала философии Платона и Канта. Цель развития ребенка состояла в том, чтобы подготовить идеально рациональное существо и выпустить его в жизнь с готовностью к практическим рассуждениям и логическим выводам[41].
Во многих отношениях Колберг превзошел Канта, утверждая, что наша психология морали — рациональная и высокоинтеллектуальная психология, основывающаяся на четко сформулированных принципах.
Пиаже и Колберг сфокусировались на проблеме справедливости, определяя характеристики морально зрелой личности, и попытались объяснить, как опыт ведет ребенка от моральной незрелости к зрелости. Пиаже выделил три стадии морального развития, в то время как Колберг описал шесть. Разница в числе стадий объясняется стремлением Колберга выделить каждую стадию на основе более точно определяемых способностей. Каким образом ребенок приобретает эти умения? Кто именно, если таковой имеется, объясняет ему, что такое «хорошо» и что такое «плохо», помогая каждому ребенку ориентироваться в сложном лабиринте действий, которые имеют моральное оправдание или не имеют его? Поднимая эти вопросы, я не сомневаюсь, что некоторые аспекты детской моральной психологии по мере развития ребенка изменяются. Я также не отрицаю, что с возрастом дети приобретают все более утонченный стиль сознательных рассуждений. Однако наиболее интересные проблемы здесь: что изменяется, когда, как и почему?
Рассмотрим, например, историю, в которой девочка по имени София обещает своему отцу, что она никогда одна не будет переходить большую улицу с интенсивным движением. Однажды София видит посреди улицы щенка, испуганного и неподвижного. Спасет ли София щенка или сдержит свое обещание? Дети моложе шести лет обычно отправляются спасать щенка. Когда их спрашивают, что при этом будет чувствовать их отец, они отвечают: «Удовлетворение», объясняя свой ответ тем, что отцы тоже любят щенков. Если эти дети узнают, что отец Софии накажет ее за то, что она перебежала через улицу — нарушила обещание, они ответят, что спасение щенка не предмет выбора. Если их спросят, что София почувствует, оставив щенка на дороге, они ответят: «Удовлетворение». Дети думают, что, поскольку подчиниться авторитету — это хорошо, тогда они тоже должны испытывать хорошие чувства, послушавшись своего отца.
Ответы на эти варианты вопросов меняются с возрастом. Дети уходят от ответов, которые фокусируются на менее значимых пунктах, существенных лишь здесь и сейчас, открывая путь к более тонким взглядам по поводу причин и следствий, а также разницы в установках, которые следует иметь, размышляя о себе и других. Но что вызывает эти изменения? Это плавный, «танцующий» переход с одной стадии на другую, в котором нелегко выделить отчетливые границы между стадиями. Возникает, однако, вопрос, все ли дети обязательно проходят через одни и те же стадии, начиная со стадии 1, где закрепляется голос авторитета, и кончая стадией 6, идеальным состоянием, при котором индивидуумы приобретают абстрактные принципы для рационально обоснованного выбора среди многих других? Каким образом наша среда формирует кантианское создание — личность, которая судит о добре и зле, приобретая осознанное отношение к релевантным моральным принципам?