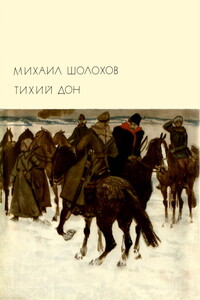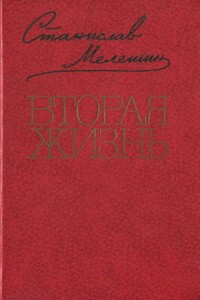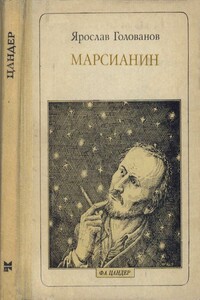Тихий Дон | страница 49
Поэтому-то с робостью и затаенной неохотой ехал в первый раз Пантелей Прокофьевич свататься. Коршуновы для своей дочери жениха не такого, как Григорий, могли подыскать. Пантелей Прокофьевич понимал это, боялся отказа, не хотел кланяться своенравному Коршунову; но Ильинична точила его, как ржавь железо, и под конец сломила упрямство старика. Пантелей Прокофьевич согласился и поехал, кляня в душе и Гришку, и Ильиничну, и весь белый свет.
Надо было ехать во второй раз, за ответом: ждали воскресенья, а в это время под крашенной медянкой крышей Коршуновского куреня горела глухая междоусобица. После отъезда сватов невеста на материн вопрос ответила:
– Люб мне Гришка, а больше ни за кого не пойду!
– Нашла жениха, дуреха, – урезонивал отец, – только и доброго, что черный, как цыган. Да рази я тебе, моя ягодка, такого женишка сыщу?
– Не нужны мне, батенька, другие… – Наталья краснела и роняла слезы. – Не пойду, пущай и не сватают. А то хучь в Усть-Медведицкий монастырь везите…
– Потаскун, бабник, по жалмеркам бегает, – козырял отец последним доводом, – слава на весь хутор легла.
– Ну и нехай!
– Тебе нехай, а мне и подавно! С моей руки – куль муки, когда такое дело.
Наталья – старшая дочь – была у отца любимицей, оттого не теснил ее выбором. Еще в прошлый мясоед наезжали сваты издалека, с речки Цуцкана, богатые невпроворот староверы-казаки; прибивались и с Хопра сваты, и с Чира, но женихи Наталье не нравились, и пропадала даром сватовская хлеб-соль.
Мирону Григорьевичу в душе Гришка нравился за казацкую удаль, за любовь к хозяйству и работе. Старик выделил его из толпы станичных парней еще тогда, когда на скачках Гришка за джигитовку снял первый приз; но казалось обидным отдать дочь за жениха небогатого и опороченного дурной славой.
– Работящий паренек и собой с лица красивенький… – нашептывала по ночам ему жена, поглаживая его засеянную веснушками и рыжей щетиной руку, – а Наталья, Григорич, по нем чисто ссохлась вся… Дюже к сердцу пришелся.
Мирон Григорьевич поворачивался спиной к жениной костлявой холодной груди, сердито бурчал:
– Отвяжись, репей! Выдавай хучь за Пашу-дурачка, мне-то что? То-то умом Бог обнес! «С лица красивенький»… – косноязычил он. – Что, ты с его морды урожай будешь сымать, что ли?..
– Так уж урожай…
– Да понятно, на что тебе его личность? Был бы он из себя человек. Да мне, признаться, и зазорно трошки выдавать свою дочерю к туркам. Уж были бы люди как люди… – гордился Мирон Григорьевич, подпрыгивая на кровати.