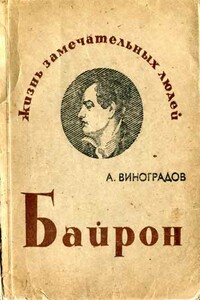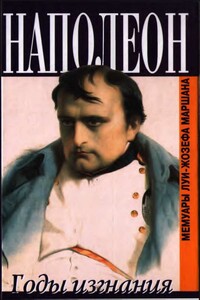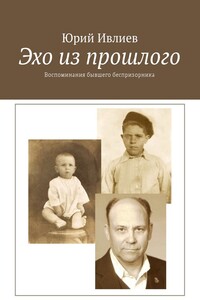Стендаль | страница 19
Произошел раскол, сестра Зинаида сделалась ярой сторонницей тетки. Сестра Полина подружилась с маленьким Бейлем. Бейль и Полина составили республиканскую партию. Зинаида выдавала все их разговоры, подслушивала, подсматривала.
Бейль в первоначальном наброске своих воспоминаний о детских годах записывает следующее:
«Я был отчаянный республиканец, что вполне понятно. Родители мои были крайними роялистами и ханжами…
В довершение всех бед я соорудил себе небольшое трехцветное знамя, с которым торжественно прогуливался один по необитаемым комнатам обширного нашего дома в дни республиканских побед… Меня подстерегали, ловили, обзывали «чудовищем». Родные плакали от бешенства, я рыдал от восторга. «Прекрасно! — вскричал я однажды. — О, как сладко пострадать за отечество!» Кажется, меня избили, что, впрочем, случалось весьма редко. Но самое главное — в клочья разорвали мое знамя. Я решил, что я мученик за отечество, и пламенно возлюбил свободу… У меня было два или три изречения, которые я всюду писал. К большому моему огорчению, я их совершенно забыл. Они вызывали у меня слезы умиления. Вот одно, которое мне удалось вспомнить: «Жить свободным или умереть». Я предпочитал его, как более красноречивое, другому, которым обычно его заменяли: «Свобода или смерть!» Я обожал красноречие с шестилетнего возраста. Думается мне, отец, наверное, передал мне свое восторженное преклонение перед Жан-Жаком Руссо, которого затем проклял как антимонархиста».
Шерубен Бейль не только проклял Руссо, он тщательнейшим образом запирал книжный шкаф. Мальчик подобрал ключи и, расставляя тома Вольтера так, чтобы незаметно было освободившееся пространство, убегал с книгой куда-нибудь подальше, в тень платанов, и запоем читал Вольтера, Руссо, энциклопедистов.
А у деда можно было открыто читать том за томом «Энциклопедию» и даже — с величайшим наслаждением — трактаты Гельвеция.
Там были запрещенные и сожженные рукой палача книги, но там же была и «Эротическая Фелиция, или мои Фредены» — книжка, повергшая мальчика в безумие эротической фантастики на целые месяцы. Но, как бы парализуя эти влияния, действовали другие впечатления: тихонько, с дедом, а иногда и один, мальчик входил в запущенные, вечно бывшие под замком комнаты любимой дочери доктора Ганьона — Аделаиды Бейль. Лютня, портреты итальянских поэтов, ноты простонародных итальянских песен, слабый аромат когда-то живых и резких духов пробуждали воспоминания неизгладимые, но потерявшие контур, и образ матери вставал, как пленительное видение, которое давало защиту от тяжелых, отвратительных явлений жизни.