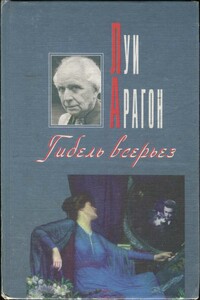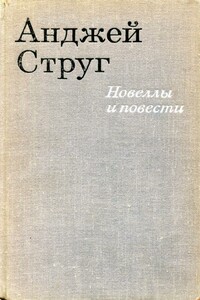Избранное | страница 71
Да, но сейчас, в эти дни, тот самый Бонапарт, запечатленный кистью Гро, Жерара, Давида… сейчас он был тем человеком, который по дорогам Франции с горсткой людей рвался к Парижу, встречаемый неожиданно для всех ликованием народа. Так и вижу эти привалы в горных тавернах, деревушки, города, куда он входит вечером при свете факелов. Сейчас ему пятьдесят или около того, и, как обычно, на нем серый расстегнутый сюртук, сапоги, белые лосины… А люди, забыв все, помнят лишь знамена, императорских орлов, солнце Аустерлица, и они радостно встречают этого человека, который идет почти один, ибо видят в нем как бы живое отрицание всего, что обрушилось на них в 1814 году вместе со знатью, вернувшейся из изгнания, с владельцами замков, которые вновь вынырнули из мрака и предаются охотничьим забавам, — чудовищный паразитизм в пудреных буклях, дурацкий реванш и целые потоки унижения. Они забыли процветавшее при императоре разнузданное лихоимство, раздаваемые щедрой рукой дары, привилегии, пенсии. И Теодор широко открывает глаза свои и видит происки и ложь, обманутые иллюзии, слышит мерный топот вновь собираемой армии и стук молотка, забивающего крышки все новых и новых гробов, жадно ждущих, зияющих. Но предпочесть Наполеону Людовика XVIII! Однако именно эта альтернатива и стоит перед ним. Неужели третий претендент? Или Республика?
Для него истина лишь в одном — в бешеной скачке, когда человек целиком расходует себя, доводит себя до изнеможения; конь — вот он стоит в темном деннике конюшни, светлым пятном выделяется на фоне окружающего полумрака, он переступает с ноги на ногу, ржет, закусывает удила, бьет копытом о дощатый пол! Никогда Теодору колорит не казался достаточно темным, ибо жизнь подобна застигнутому врасплох преступлению, и это он мечтает воплотить. Между тем, Другим, что идет форсированным маршем и положительно свел с ума как неимущих, так и перебежчиков-маршалов, сохранивших благодаря государю свои расшитые золотом мундиры, и этим Королем со своим герцогом де Блакас, со своими придворными священниками, своими Баррасами в качестве советников — да-да, советников, ибо в Париже ходят слухи, что в последние дни Людовик XVIII призвал Барраса, — между теми и другими Жерико подобен художнику между двух картин; ему же хочется только одного: бросить наземь кисти, ибо ничто не способно вдохновить его, и к горлу подступает горечь. Значит, так ему и суждено остаться одним из тех молодых людей его поколения, чей пыл поглотила катастрофа, постигшая Империю, значит, он сам и есть тот сраженный кирасир на смертельно раненном коне, которого он написал… А теперь вот эта трагикомедия, где одна камарилья выгоняет другую, где в великолепных парижских особняках меняются жильцы и придется вновь присутствовать при раздаче местечек, — нет уж, увольте от этого суматошного зрелища, которое не подчинишь никакой разумной организующей идее! Теодор не станет писать завтра возвращение с Эльбы, где все должно выстраиваться сообразно с театральным жестом императора, не будет писать ни его, ни всей той гнили, что еще цепляется за Тюильри. О, какой свинцово-мрачный взгляд обращает нынче вечером к будущему юный Жерико, какую необъятную, ничем не заполняемую пустоту ощущает он в сердце, какими бесполезными кажутся эти руки!