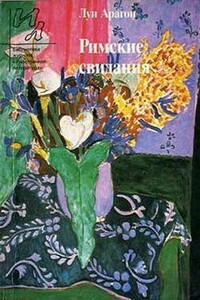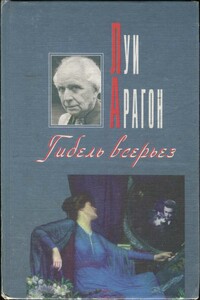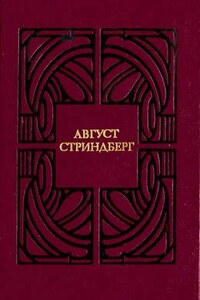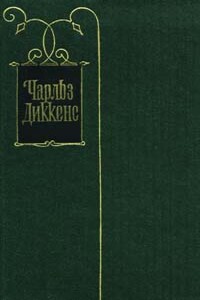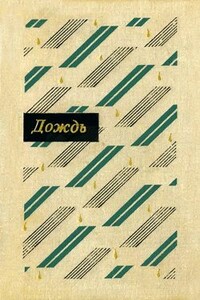Избранное | страница 12
Весьма показательна, например, для позиции Арагона статья «Пейзажу четыреста лет, а Бернару Бюффе — восемьдесят» — патетическая защита права художника быть пейзажистом, права, которое пытались высмеять теоретики абстрактной живописи. «Девятнадцатый век, — пишет Арагон, — в самых разных вариантах представил нам французскую природу, и приходится сожалеть, что эта давняя традиция почти иссякла в наши дни». Арагон горестно напоминает, что само слово «рисунок» стало почти ругательным, потому что не рекомендуется рисовать ничего «узнаваемого». Темпераментно и нежно рассказывая о пейзажах кисти Б. Бюффе, Арагон боится, что его поймут превратно, истолкуют в духе схематизма. Он подчеркивает: рисовать художник начинает только то, «что обычно не видят смысла фотографировать. Нужна живопись, чтобы это было замечено». В своей работе о Марке Шагале (1972) Арагон высвечивает линию преемственности и так объясняет свое желание говорить о традициях: «Не потому, что мне хочется оправдать творчество художника-современника тем, что создано предыдущими веками; просто меня так и тянет, слегка задев ногтем голубое или оранжевое стекло, заставить вас услышать это хрустальное эхо, летящее сквозь эпохи и страны».
Умение ценить разные художественные вкусы, уважение к мастеру, творящему чудо — кистью ли, голосом, пером ли, мимическим жестом на сцене, — освещает изнутри все последние произведения Арагона. «Анри Матисс, роман», не имея ни одной из стабильных черт романного жанра (это синтез дневниковых записей, искусствоведческих эссе, лирических воспоминаний и т. п.), во многом близок «Страстной неделе» — торжеством жизнеутверждающих интонаций — на полотнах Жерико и Матисса и в художественном слове Арагона.
Романы «Гибель всерьез», «Бланш, или Забвение», «Театр/роман» эту романтическую приподнятость снимают. По общей тональности они отличаются и от «Реального мира», и от «Страстной недели». Трагедия подступающей старости, горечь разочарований, крушение многих иллюзий — все это спроецировано в душевных муках Антуана-Альфреда («Гибель всерьез»), Жоффруа Гефье («Бланш»), Романа Рафаэля («Театр/роман»). После художника Жерико перед читателем — писатель Антуан, ученый-языковед Гефье, актер Рафаэль — люди, причастные к искусству слова, к творчеству. Образ героя многолик, ускользающе смутен; он то почти тождествен автору, то необычайно далек от него, и оттенки эти — в отличие от книг предыдущего периода — нарочито смазаны. «С кем же я на самом деле? Кто я? Как понять другого?» — спрашивает себя писатель Антуан. «У меня дурная привычка мыслить себя во множественном числе», — вздыхает актер Рафаэль.