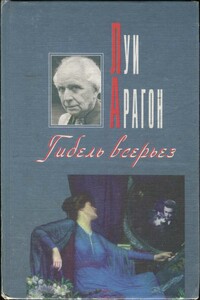Избранное | страница 10
Теодору Жерико предстоит сделать выбор между Реставрацией и Наполеоном. А он — осознавая, что подлинные интересы народа не совпадают ни с одним из полюсов, — выбирает… искусство. Но отнюдь не «чистое искусство», позволяющее забыть о трагедиях, а искусство, активно вмешивающееся в реальную действительность. «Заглянуть, узнать… понять… постичь причины того, что сейчас еще необъяснимо, вложить в происходящее новый смысл… Знать бы, что будет дальше… И у Теодора в этот вечер было перед лицом жизни ощущение как у художника перед натянутым холстом: писать — значит осмысливать. А значит — жить…»
Народ под пером Арагона многолик, изменчив, весь в борении контрастов. Франция — это и не привыкшая думать толпа, которая обычно прогуливается по центральным улицам, а в торжественные дни кричит «Да здравствует король!», и придавленные нищетой, ко всему равнодушные крестьяне, и отчаянные мечтатели вроде Фредерика младшего или Бернара, совершающие акты, бессмысленные с точки зрения истории, но героические. Родина — не только красивые ландшафты, живописные силуэты городов, древние камни Парижа или Бетюна, но и однообразные равнины, дороги, раскисшие от весенней распутицы, мелкий скучный дождик — подчеркнуто унылый пейзаж, проходящий через всю книгу. Для Теодора, так же как для торфяника Элуа, «родиной были вот эти туманы и низкая пелена дыма, этот торфяной край, где люди носят лохмотья, где единственное лакомство — молоко тощей одышливой коровы». А таинственное сборище в лесу, куда нечаянно попал Жерико, — сколько разноречивых мнений, противоположных интересов, непримиримых взглядов! Нет, не прост процесс становления национального сознания. «На этом собрании, куда они пришли как свидетели, как наблюдатели, — слышим мы голос автора, — их ни в чем не убедят: для того чтобы их убедить в некоторых вещах, понадобится целое столетие и три революции…»
И следующее столетие властно вступает на страницы романа — сценами Саарбрюккена 1918 года, сценами трагического «исхода» 1940-го. Март 1815-го и май 1940-го — «оба раза это был день, когда умирали боги… а высокие идеалы обернулись фарсом. Минута, когда мы все сразу, не сговариваясь, поняли, что судьба наша в наших руках… перестали быть людьми, за которых решают другие, так что им самим остается только повиноваться и идти, куда прикажут…».
Вполне отчетливо объединив в этом своем размышлении о роли народа два романа — «Коммунисты» и «Страстную неделю», — Арагон решительно отбросил доводы торопливых критиков, увидевших в «Страстной неделе» прощание с гражданским пафосом. В действительности же писатель пытается здесь понять, как гражданский долг преломляется в судьбе художника. Творчество, осознанное как деяние, — основная константа этой книги и всех за ней последовавших произведений Арагона.